

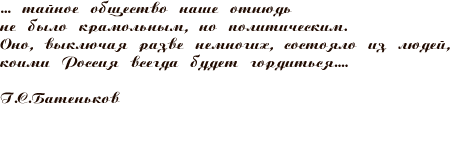




|
|

ПРАВО НА ПАМЯТЬ (п р о д о л ж е н и е)Как бы скоротечно и трагично ни было вооруженное восстание дворян-революционеров, оно оказалось толчком к антикрепостническому и национально-освободительному движению. Восстания в новгородских военных поселениях, "холерные" и другие бунты, наконец восстание в Польше - все это свидетельствовало, что гром пушек на Сенатской площади разбудил Россию. И потекли в Сибирь новые потоки ссыльных - участников народных движений, в том числе польских повстанцев. Многие разжалованные в солдаты офицеры и тысячи неблагонадежных солдат направлялись на службу в сибирские воинские части. В Омске и его окрестностях собралось более двух тысяч ссыльных поляков. Создалось тайное общество, целью которого было поднять восстание, освободить из острога арестантов, овладеть оружием и в случае успеха отделить Сибирь от России; в случае неудачи - уйти с оружием через Среднюю Азию в Индию. Восстание намечалось начать 15 июля 1833 года. Но нашлись предатели. Организаторы заговора были арестованы. Хватали всех подозрительных поляков и русских солдат. Было арестовано около 1009 человек. Волнения охватили солдат и в Енисейской губернии. Началось брожение в воинских командах Ачинска, Енисейска и Красноярска. По данным полицейской агентуры, польские солдаты Красноярского батальона стремились привлечь на свою сторону русских солдат. В донесении отмечалось, что "более полубатальона готовы им на пособие", что восстание намечается на весну 1834 года и заговорщики "к началу возмущения... ожидают государственного преступника Якубовича, находящегося в каторжной работе за Байкалом". Да, память о декабристах была жива и рождала в сердцах повстанцев надежды на организационную помощь. Проверка показала, однако, что Якубович, находясь на каторге, даже и не слыхал, как и другие декабристы, о волнениях в Енисейской губернии. Тем не менее, имя его оказалось замешанным в делах следственной комиссии, и этого было достаточно, чтобы тотчас отправить его не в Енисейск, а от греха подальше, сначала в Усолье, в Большую Разводную, а затем в Назимово, с обещанием скорого перевода в Енисейск. Якубович тотчас, с оказией, послал письмо Лисовскому, чем несказанно обрадовал туруханского ссыльного, оставшегося без верного друга, Аврамова, с кем делил радости и горести двенадцать лет. Лисовский ответил немедленно и подробно: дружба с писарем установилась прочная и можно было писать не опасаясь. Обещал приехать в самом скором времени, но возможность представилась лишь на следующую весну. С волнением подплывал Лисовский к небольшому селу, в котором томился собрат-декабрист. Мнение об Александре Якубовиче, несмотря на двухлетнее знакомство на читинской каторге, было у него самое противоречивое. Александр Якубович большей частью был молчалив и замкнут, редко принимал участие в занятиях "каторжной академии" и, пожалуй, никто не знал, что бывший артиллерийский капитан с золотой медалью закончил университет, был широко образован, что об его первых литературных опытах одобрительно отзывался Пушкин, а Денис Давыдов называл его "богатырем-философом". А вот его словесный портрет, составленный в III отделении:
Ходило немало легенд о необыкновенной храбрости Якубовича в Кавказской кампании, но к ней примешивалась сомнительная слава задиры и хладнокровного дуэлянта, бретера. Поговаривали, что он вызвал на дуэль Грибоедова и спокойно прострелил ему руку, "...чтобы лишить Александра Сергеевича удовольствия играть на фортепьяно". Кто он? - не раз задавали себе вопрос и соратники и даже близкие друзья. Искренний, сознательный революционер или хвастун и позер? Еще летом 1825 года, приехав с Кавказа, он вызвался лично убить Александра I. Кондратию Рылееву стоило немало труда отговорить его от опрометчивого шага. Накануне 14 декабря Якубович вызвался возглавить флотский экипаж и, захватив Зимний дворец, арестовать Николая и всю царскую фамилию. Но в самый канун восстания он отказался командовать моряками, однако заявил, что на площадь он пойдет и "покажет, как надо стоять под пулями ". Якубович первоначально был приговорен к смертной казни, затем замененной пожизненной каторгой. Лисовский помнил хорошо их первую встречу осенью двадцать пятого в Петербурге. Тогда он впервые познакомился со многими членами Северного общества. Александр Якубович, с неизменной черной повязкой на лбу, блестя огромными глазами, решительно заявил:
Следствие не обнаружило на Кавказе следов тайного общества, Якубович категорически отверг серьезность своего заявления, объяснив, что оно было вызвано исключительно желанием похвастаться. Долго находившийся на Кавказе, в действующей армии, он не был официально принят к члены Общества, но был, однако, посвящен во все ею планы и даже в план самого выступления на Сенатской площади. Его показания отличаются сдержанностью, однако он не отрицал, что вызывался убить Александра и возглавить 14 декабря флотский экипаж... Не только для современников, но и для многих историков он остался фразером и хвастуном только потому, что не обнаружено документов об активном участии в обществе... А может быть эта неприятность для историков была счастьем для многих современников и друзей Якубовича? Ведь даже без доказательств подвергся опале главнокомандующий кавказским корпусом генерал Ермолов, без доказательств подвергались изгнанию друзья и великие поэты - грузин Александр Чавчавадзе и русский Александр Грибоедов. И разве не знал подследственный Александр Якубович, чем грозит ему лично "желание возглавить"? Ведь это уже не просто "принадлежность к тайному обществу" и даже не "знание цели умысла", чем определялись все разряды государственных преступников, а руководящая роль, наконец. И декабрист не отрицал этого на следствии. Нет, не очень-то просто понять яркую личность декабриста Якубовича, которого совсем не случайно прочили себе в предводители, охваченные волнением солдаты Енисейской губернии. Здесь, в Назимово, сначала не с какой-то определенной целью, а скорей лишь с неосознанным желанием забыться, отвлечься от тягостных дум, начал Якубович зарисовки портретов аборигенов, бытовых сцен, постепенно втягиваясь в серьезную этнографическую работу. Этнография не была его случайным увлечением. Он увлекся этой областью науки еще на Кавказе. И способствовали этому увлечению два человека - Пушкин и Кюхельбекер. Великого поэта Якубович знал лично еще со встречи на Кавказе, когда ссыльный Пушкин совершал путешествие в Арзрум. Потом они встречались в редакции "Современника", куда Якубович, обычно решительный н напористый, принес свои кавказские записки с великой робостью. Пушкина он боготворил и шел к нему со своими тетрадками, смущаясь и кляня себя за это. Александр Сергеевич встретил Якубовича радостно и тепло. По настоянию Якубовича "Кавказские наброски" были напечатаны под псевдонимом. Пушкин настойчиво рекомендовал ему не бросать перо. Теперь остались об этом лишь воспоминания... Как-то в узком кругу тифлисских офицеров и чиновников Кюхельбекер повторил основные идеи своей парижской лекции. На дружеской вечеринке присутствовал и Якубович. Слова Кюхельбекера глубоко запали в его сознание. Тот говорил с нервическим жаром о том страшном времени, когда "Россия стонала под игом Чингисхана. Пришло время, и тирания была сокрушена. Но наступило новое несчастье, и цепи рабства опозорили русских землепашцев. Рабство в истории России - это минутное торжество несправедливости: угнетенные рано или поздно победят, в свою очередь, деспотизм и рабство". Теперь в глухом одиночестве, в дни отчаяния Якубович иронизировал: "Минутное торжество несправедливости" - для истории миг. Для меня же лично - уже двенадцать лет. Это не "миг, - а лучшая часть жизни, которая, увы, не вечна" Вот в такую минуту и остановился у него направляющийся в Енисейск Лисовский. На первый взгляд Александр Иванович, казалось, не изменился с той далекой читинской поры: те же лихие усы, по-прежнему белые, как слоновая кость зубы, та же порывистость, энергия, как при первой петербургской встрече. Но была уже заметна и обильная седина в черных, гладко зачесанных назад волосах, а огромный, великолепной формы лоб, прорезали глубокие морщины, возле губ легла тяжелая складка. Непривычная для Лисовского мягкая, даже какая-то застенчивая улыбка, преобразила лицо Якубовича до неузнаваемости.
В небольшой, скромно обставленной, но блистающей чистотой комнате, занимающей половину старинного сибирского дома, Лисовский сразу же обратил внимание на множество рисунков, этюдов, картин, выполненных углем, цветными мелками, акварелью, развешанных по стенам. Десятки типов мужских и женских лиц. И не только типичные черты национальности: каждый портрет был характер, с присущим только ему внутренним миром. И еще одно свойство души Якубовича приоткрылось Лисовскому: он никогда не был безразличен к людям! Он любил их, болел за них. Вот рисунок "Буряты". Вечер. Характерные забайкальские сопки, костер, лошади. И два бурята под развесистым деревом. Это он делал там, в окрестностях Читы. Но никто не видал его работ. Почему он скрывал? Ходили разговоры, что Якубович под псевдонимом опубликовал свои очерки в "Современнике", в "Северной пчеле". Авторство замечательных очерков и рассказов он отрицал почему-то упорно. Он отрицал, что ему принадлежат карты-схемы некоторых районов Кавказа. И сейчас, глядя, с какой любовью воспроизвел он портреты северян, с какой скрупулезной тщательностью зарисовал костюмы, предметы быта, Лисовский уже не сомневался, что перед ним настоящий, вдумчивый исследователь-этнограф, настоящий художник. Он спросил Якубовича:
Якубович помрачнел и заговорил о пустяках. Но Николай Федорович решил не отступать. Он понял, что и замкнутость, и вспыльчивость - все это от глубоко запрятанной обиды за недоверие к нему со стороны близких людей. Пусть все декабристы, оказавшиеся на каторге, по молчаливому уговору решили не касаться самою события на Сенатской площади. В Чите с ними рядом был Сергей Трубецкой, главный руководитель, "диктатор", который вообще не явился на площадь 14 декабря. Якубович был там, исчезал "но непонятной причине", ссылаясь на сильную головную боль от давней раны. Почти вплотную подходил к Николаю I с белым платком на шпаге. И будто бы о чем-то даже говорил с ним. Вот какие молчаливые вопросы друзей давили Якубовича, а он не мог, верней не хотел объяснять, поняв, что его считают хвастуном, фразером, авантюристом, и чуть ли не изменником. К Трубецкому почему-то относились снисходительней, хотя он, вы двинутый в руководители восстания, вообще не явился на площадь... Вот какие муки выпали на долю этого человека. А может быть Якубович, человек честный и гордый, решил, что оправдывается только тот, кто считает себя виноватым? Трубецкой объяснил с жестокой логикой:
А что Якубович? Может быть, он раньше других понял, что неудача восстания произошла не на Сенатской площади, а гораздо раньше, в самой его организации? Человек импульса решил: все равно надо действовать! А потом понял: цареубийство может привести к жесточайшему кровопролитию, хаосу... Но... в конце концов Якубович остается трусом и изменником для друзей и потомков. Вот какие муки выпали на долю этого "философа-богатыря". Может быть, именно так думал Николай Лисовский при этой встрече, до конца поняв Якубовича и поняв, что здесь, в интересной работе, среди простых людей, для которых он - страдалец народа, без пристальных взоров друзей и молчаливых укоров, нашел душевное отдохновение? И не в молитвах, а в нужном и большом труде.. ...Лисовский не стал задавать новых вопросов, а рассказал, чем они занимались с Аврамовым все эти годы. Об интересной поездке на Таймыр, о покинутых древних селениях русских землепроходцев, о выводах: он считает, что заселение Сибири сперва начиналось с народного движения. Рассказал об Аврамове, о его знакомстве с огромной рекой, об удивительных племенах тунгусов, особенно отдаленных, которые вопреки "Уложению о инородцах" - сохраняют выборную власть и довольно часто изгоняют нерадивых своих вождей. - И вы полагаете, что сии, не скрою, очень интересные мысли, где-то удастся напечатать?
- Не подумайте, дорогой Александр Иванович, что я разыгрываю вас. Здесь двойной интерес. Мы слали записки на имя губернатора с просьбой перепроводить их в адрес III отделения, то бишь жандармского управления! - пусть уверяются в нашей благонадежности. Это первый ход, как говорил мой милейший друг Иван Борисович, - "ход конем". Мы не слали никаких проектов, никаких изъявлений собственных мыслей. Все гораздо проще. Например: "В период дозволенной высочайшим утверждением поездки обнаружено в устье Енисея, в районе мыса Толстый Нос, обитающее племя туземцев, ранее неизвестное науке, именуемое себя - долганы. Покорнейше просим сообщить заинтересованным ученым лицам". Или: в таком-то районе Нижней Тунгуски есть пороги, мелеет тогда-то, проходима тогда-то. Сообщаю я и поныне - о колебаниях погоды, о произрастании трав, овощей и злаков, о животных, птицах, рыбах, о находках руды и угля, о признаках нефти, запасах лесов, о соляных и минеральных источниках. Что нет необходимых товаров у инородцев, что везут купцы им дерьмо, - не писали, а как Эзоп: "такие-то товары любимы и пользуются большим спросом". Пусть источники сведений безымянны, Александр Иванович, но сохранится одно имя - Польза. Не может быть, чтобы наши сведения, пусть не все, пусть частично, не заинтересовали бы ученых, а за ними - людей предприимчивых! Ну и... Будем откровенны: где-то в глубине души таится надежда, что когда- нибудь по косвенным данным, хоть краешком, кто-то упомянет о нас, скажет доброе слово. Знаете, Александр Иванович, тщеславие, оно ведь сродни деятельности, а не апатии... И память потомков, она, пожалуй, реальней чем какое-то там "высшее и вечное блаженство"... Хочется как-то заслужить это право на память... Неужели несчастный Аврамов не заслужил этого? Лисовский в волнении замолчал. Затем снова повторил вопрос:
- Рисунки, этюды перед вами. Интересуют меня вопросы истории и этнографии аборигенов. К тому же, вы, вероятно, уже знаете из моего письма: я поступил на службу в компанию северо-енисейских золотопромышленников Базилевского и Малевинского и это, мне кажется, даст возможность ездить по всему Анциферовскому уезду и изучать экономику и естественные богатства здешнего края... - Присел, продолжал с большой серьезностью. - Признаться, записей особых я не вел. Так, наброски. И это не от ленности ума, - Якубович усмехнулся. Мне кажется, - я бы горы своротил - столько чувствую сил! Огромный, неизведанный край, малоизвестные науке люди - енисейские остяки, которые называют себя кеты - все это обширнейшее поле для деятельности... Но кому это надо, Лисовский? Разве, что мне, лично, да вам. Наше имя, да что имя - дела наши, самые полезные, самонужнейшие для России - не попадут в науку. Как подумаю обо всем этом, поверите - опускаются руки. Единственную практическую пользу, что может принести мое пребывание здесь - это служба у господ золотопромышленников. Рабочие идут ко мне с жалобами, спрашивают совета. Я слежу за приказчиками. Они сожрать меня готовы. Ну, да я костистый - подавятся... А наука... Извините, Лисовский, но мы в сложном положении. От культурного мира мы отгорожены стеной самодержавия. От народа - стеной непонимания, недоверия к нам. Между нами - незримая стена. - Полноте, Якубович! - Напомню слова Аврамова: "Если между нами даже пропасть - мы ляжем первыми, пусть безымянными бревнышками в вечный мост, который соединит всех нас". Якубовичу врезался в память этот разговор. Да, он одинок. Родственники, не то, что забыли о нем: они попросту отказались от "бунтовщика, опозорившего дворянскую родовую честь". Какая ирония судьбы! Когда молодой гусар, Александр Якубович, стрелялся из-за петербургской актрисы Измайловой - "дамы полусвета", за что из гусаров был переведен в действующую армию, на Кавказ, - он даже был окружен ореолом геройства. "Кодекс дворянской чести" позволял стреляться даже из-за пьяной вздорной ссоры. Слава дуэлянта, бретера, не отторгала дворянского офицера от "высшего света", но выступление за свободу, хотя в этом выступлении он и не убил ни одного человека - навеки "опозорило" Якубовича в глазах того же великосветского общества! И даже единственный близкий человек, отец, не найдя в письмах сына "чистосердечных и истинных слов раскаяния и выражения верноподданических чувств" - прекратил переписку. А ведь Якубович, скрипя зубами и мучительно краснея, пытался писать и, даже писал! - покаянные письма. Но при сопоставлении их всех и при внимательном прочтении ясно видно, а верней - совсем не видно "чистосердечного раскаяния и верноподданических чувств". Казенными, вымученными письмами императора Николая трудно было провести... Летом 1842 года начавший свое знаменитое путешествие Александр Федорович Миддендорф остановился в Назимово, где жил Якубович, так и не добившийся разрешения проживать в Енисейске. Миддендорф имел строжайшее предписание: "Встречаться и разговаривать с государственными преступниками только в присутствии должностных лиц". Однако он пренебрег этим предписанием и зашел к декабристу запросто. Миддендорф был поражен огромной научной работой, которую провел "иазимовский отшельник". Этнографические записки, рисунки, карты, подробнейший метеорологический н гидрологический бюллетени.. Не скрывая волнения, Миддендорф воскликнул:
"...Может заниматься этим не иначе, как под условием, что сочинения его по каким бы то ни было предметам не будут напечатаны и изданы в публику ни под собственным именем, ни под псевдонимом". - Так что, заберите эти записки и... точка! Миддендорф молча смотрел на Якубовича. "Что за люди! Как можно губить такие умы! Вот и в Красноярске Митьков отдал многолетние записи по метеорологии... И Спиридов по растениеводству". - Нет, Александр Иванович! Я не могу принять такую жертву. Я буду только нижайше просить вас сделать выписки по определенным вопросам. Я постараюсь напомнить о вас и о Лисовском (единственное, что мог сделать А. Ф. Миддендорф, это в IV томе своего труда указать: "источник информации - сведущий человек в Назимово" (Прим, авт.)). Якубович дал согласие оказать всемерную помощь экспедиции Миддендорфа. С воодушевлением взялся он за нужное и полезное дело. Енисейское начальство поначалу не препятствовало его разъездам. Да, собственно и не могло формально препятствовать. Якубович являлся управляющим резиденции "Ермак" Малевинского и Базилевского. Характер работы требовал частых разъездов. Заниматься Якубовичу хозяйственной деятельностью "всемилостивейше соизволили государь император Николай I". Господа золотопромышленники были о Якубовиче двоякого мнения: их устраивала кристальная честность его и беспокоили записки о плохом положении рабочих, о недостатке провианта, одежды и обуви. В нелегких странствиях, в дождь и пургу Якубович собирал богатейшие сведения, которые по праву заняли бы в русской науке подобающее место. В зимние ночи он писал обстоятельные отчеты. Между тем завертелось хорошо отлаженное колесо жандармского механизма. По неукоснительному порядку заводится специальное дело, в котором отражен каждый шаг Якубовича. Этот документ стоит того, чтобы его название привести полностью. Вот оно. "Дело о дозволении государственному преступнику Якубовичу заниматься некоторыми сочинениями для г. фон Миддендорфа. Начато 17.III.1843 г. Кончено 14.IХ.1845 года. На 8 листах" ...От работы его оторвал громкий стук в дверь.
Когда за урядником закрылась дверь, Якубович, не сдержавшись, швырнул стакан в стену.
Но Александр Иванович нашел в себе силы не бросать начатое дело, пробиться, пусть безымянным, в печать, как обещал Миддендорф. Поездки, поездки, а сердце становится все слабей и начались непонятные боли в груди, и тяжелые отеки ног и рук. А надо писать, писать и еще переписывать "точные копии". Где взять силы? Летом 1844 года до Якубовича дошло из Туруханска трагическое известие: при непонятных, таинственных обстоятельствах скоропостижно скончался при поездке в устье Енисея Николай Лисовский, здоровый, еще недавно полный сил и замыслов. Это о нем написал Миддендорф: "У местного высокообразованного купца Лисовского в Туруханске есть прекрасно оборудованная метеорологическая лаборатория". - И вот он погиб. Исправник Добрышев, сопровождавший декабриста, написал в докладной: "Государственный преступник Лисовский скончался от белой горячки по причине неумеренного винопития. Похоронен в Толстом Носу". Одновременно он возбудил дело о взыскании денег с вдовы Лисовского, якобы данных покойному в долг. И ни у кого не вызвало недоумения, подозрения, что должостное лицо, приставленное следить за поведением "преступника", не только допустило пьянство, но и ссудило деньгами на это "неумеренное винопитие". Вдова пыталась доказать, что Лисовский взял с собой, как обычно шкатулку, где постоянно хранил деньги и тетради. Николай Федорович, намереваясь сделать какие-то значительные покупки, взял из дома почти все деньги. Так она утверждала. Исправник Добрышев утверждал обратное: денег у Лисовского не было, и он ссудил ему значительную сумму. На что же? Однако эта "мелочь" никою не интересовала. И Лисовский, то есть теперь вдова его, осталась должна Добрышеву! А куда делалась шкатулка с деньгами, где хранились еще и тетради и дневники? Никому неведомо. И с удивительной поспешностью был описан дом декабриста со всей утварью... за несуществующие долги. А бумаги? Они исчезли бесследно. Что было в них? Мы можем только догадываться по косвенным данным, но отрывочным фразам из переписки декабристов. Якубович тяжело переживал трагическую гибель друга. Усугубилась болезнь. Мрачные мысли одолевали одинокого изгнанника. В Красноярске Василий Давыдов и Спиридов, целые колонии в Минусинске, и Тобольске, Ялуторовске. А он - один. Один, прикованный к Назимово повелением монарха. Между тем господин енисейский губернатор Падалка проявляет "трогательную заботу" о ссыльном Якубовиче и "горячую заинтересованность его научной работой", делая вид, что ничего не знает о состоянии здоровья декабриста и его просьбах - сменить место ссылки, дать возможность хотя бы изредка пользоваться услугой врача. Вновь урядник зачитывает Якубовичу запрос губернаторам:
Такой ответ не удовлетворил высокое начальство, и 23 августа 1845 года летит срочный запрос Иркутского генерал-губернатора Руперта: "Чем занимается, что пишет государственный преступник Якубович?"
Имею честь донести, что гос. преступник Якубович, доставленный 2 числа, сего месяца для излечения в г. Енисейск, на другой день умер от грудной водянки. Подлинное подписал: состоявший в должности гражданского губернатора - Падалка". Тщетно обыскивали в Назимово дом Якубовича жандармы. В папку личной канцелярии Его Императорского величества нечего было положить. Кто-то из местных жителей показал могилу, выложенную камнем. В дни острой тоски и безысходности Якубович собственноручно заготовил ее, не надеясь, что его похоронят прилично. Жандармы разворошили склеп: не захоронены ли там записки государственного преступника? Но никаких бумаг не было. Бумаги исчезли. Порой судьба документов бывает так же трагична, как и судьба людей... Предчувствуя близкую кончину, Александр Якубович пригласил к себе своего давнего знакомого, близкого друга семьи Фонвизиных доктора Павла Марковича Прейна. Священник, ожидавший последней исповеди "государственного преступника", остался за дверями. Подлинную исповедь принял доктор Прейн. Якубович показал рукой на грудь: "Здесь самые ценные для меня записки. За них меня давно бы упрятали в каземат и убили бы, как Михаила Лунина. Остальные бумаги, дневники, все мои записки в тайнике в Назимово. Я полагаюсь на вас. Быть может... Нет, обязательно придет время, когда потомки поймут, что мы не были интриганами и дворцовыми заговорщиками... Мы мечтали о будущности... - Я все сделаю, Александр Иванович, чтобы труды ваши, ваши мысли не погибли. Ничто не вытравит вас из памяти России. Я близко знал и Аврамова, и Лисовского, и Шаховского. С великим уважением отношусь к вам, Александр Иванович, к чудесной чете Фонвизиных. Как можно думать о забвении? Поверьте мне: мыслящая Россия помнит о всей вашей когорте героев, имена ваши служат примером... И потомки не забудут вас! Полицейские не раз снимали допрос с доктора Прейна: до них дошли слухи, что умирающий передал ему, якобы, какие-то бумаги. Понимая ценность записок революционера, честный доктор все отрицал, утверждая, что и ему Якубович сказал лишь об уничтожении всех бумаг. Показания совпадали с последним письмом Якубовича губернатору. Жандармы, казалось, успокоились. На самом деле долгие годы они вели поиски бумаг, чем-то особенно интересовавших тайную полицию. Для историков поиск документов декабриста был затруднен. И вот, в 1901 году, в газете "Енисей" появляется корреспонденция о том, что Якубович действительно передал все записи доктору Прейну. Павел Маркович долго хранил их и передал перед смертью директору Красноярской гимназии Логарю. Но случилось непоправимое: при грандиозном пожаре Красноярска в 1887 году, вместе с домом директора гимназии все бумаги Якубовича безвозвратно погибли. Минуло еще четверть века. Пролетариат, наследник первых революционеров России, готовился в 1925 году отметить память декабристов - 100-летие со дня восстания. Начались детальные, тщательные поиски документов. И вновь слабая надежда согрела сердца исследователей... Стало известно, что бумаги Якубовича не погибли при пожаре Красноярска. Они перешли к вдове директора гимназии, а затем - к ее дочери... И вот новая печальная развязка: у слабой, нет нищей духом! женщины не хватило смелости хранить наследие декабриста, и она в годы колчаковщины... собственноручно сожгла их. "Безвозвратно утрачено" - сказано о научном, литературном и эпистолярном наследии А. И. Якубовича. Но не рано ли ставить точку? Ведь о гибели бумаг сообщила не сама дочь Логаря, а уже внучка его. [cледующая] |