

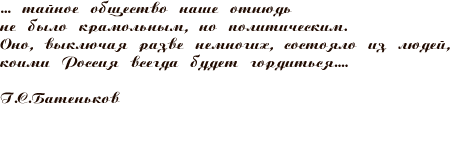




|
|

УЗНИК ТЮРЬМЫ БЕЗ СТЕН И РЕШЕТОК...Не знал своей дальнейшей судьбы Федор Петрович Шаховской, несколько ободренный энтузиазмом губернатора Степанова. Была надежда, что и он сможет принести какую-то пользу далекому краю. - Осторожность в поведении не оставит без внимания вашу тяжелую судьбу. Все еще образуется: надо уповать на монаршью милость. - Все это говорил ему Александр Петрович, снабдивший декабриста книгами по истории, наставлениями по огородничеству, животноводству. - Да, осторожность... Она нужна во всем. Особенно в переписке. - И об этом говорил Степанов, просил ни по какому поводу не упоминать его имени. Шаховской понял его: не страх за свою персону диктовал губернатору эти слова - слишком многие красноярские чиновники были связаны с ним и Батеньковым. А Степанов не терял надежды сделать еще что-то полезное для губернии. С еще большей горечью, чем Красноярск, покидал Шаховской Енисейск, оживленный торговый город. Из него уходили на подвиг славные землепроходцы Дежнев и Атласов, Хабаров и Стадухин. Енисейские люди основали и Красноярск и Якутск, открыли Сахалин, Камчатку и Аляску и у истоков этих славных дел стоял другой его предок - Семен Шаховской. До Енисейска декабрист ехал на лошадях. Ехал неспешно, делал остановки в больших селах, довольно частых по Енисейскому тракту, прямому, широкому, содержащемуся в отличном состоянии. Со слов губернатора Степанова, который и дал распоряжение - не гнать лошадей и делать для отдыха дневные остановки, Шаховской знал уже, что тракт благоустроили, вымостив своими костями, ссыльные пугачевцы: донские и яицкие казаки, волжане, казанские татары и башкиры Салавата Юлаева. И по сей день в селах слышалась разноязычная речь, всюду встречались разноплеменные лица. Села были, как и везде по Руси, расположены в две линии, вдоль тракта. Но это были не "потемкинские деревни" и хутора с размалеванными фасадами и бутафорскими яблонями и вишнями. Дома стояли добротные, рубленные из вековых сосен и лиственниц, крытые серебристо-серыми досками из осин, а некоторые, побогаче, и фигурными лемехами, как купола древнерусских церквей. Бескрайние леса, обширные луга тянулись и тянулись без конца и края. Особой зажиточности не было заметно, но не бросалась в глаза и ужасающая русская нищета. Подметил острым глазом Шаховской и другое: сибирские крестьяне не ломали шапок перед начальством, держались независимо, отвечали с достоинством, даже с откровенной, вызывающей дерзостью, не молились истово, заслышав колокольный звон. Он даже заметил, что многие не носят нательных крестиков. Сказывался дух вольницы, позабытого бунтарства, раскольничества. Сибиряки не знали крепостничества. После бешеной скачки в неизвестность, словно не на вечную ссылку везли его, а с фельдъегерской депешей, Шаховской имел возможность, наконец, осмотреться. В пути до Красноярска возок был крытый, и он, по большей части, видел только спины кучера и жандарма да физиономию второго жандарма справа. Теперь он имел возможность осмотреться. По-настоящему Енисей поразил его в районе Широкого Лога, на месте впадения в него другой великой реки - Ангары. Енисей открылся во всей красе уже в Красноярске. А вот сейчас, после Енисейска, река поражала уже не только особой, первозданной красотой, но неукротимой, подавляющей мощью и величием. Теперь, когда определилось место ссылки и когда Туруханск, даже после жестокой характеристики Степанова, уже не казался таким страшным, как предполагаемые колымские поселения, душа Шаховского несколько поуспокоилась. Неопределенность окончилась. Все стало на свое место. Впереди тысячекилометровый путь. Он был необычен своей новизной, и Шаховскому, как человеку любознательному по натуре, все вокруг было просто интересно. И новизна, пусть даже подневольного путешествия, вызывала размышления. Поражала мощь необузданной реки, нескончаемые леса по ее берегам, нетронутые земли, обширные луга и горы, наверняка таящие несметные богатства. Шаховской, обучавшийся в Московском университетском пансионе, увлекался естественными науками, высоко ценил труды Александра Гумбольдта и под влиянием его книг и страстных статей Михаилы Ломоносова изучал естествознание, химию, медицину и горное дело. И вот сейчас, разглядывая на стоянках совсем свежие осколки горных пород с явными следами железа и золота, находя повсюду по берегам Енисея обломки угля, чудесные кристаллы горного хрусталя, дымчатого топаза, обкатанную рекой яшмовую, халцедоновую, сердоликовую, опаловую гальку, - хоть сейчас в серьги и броши! - Шаховской думал о богатствах этого края, которые до сих пор лежат втуне. Исправник, сопровождающий Шаховского от Енисейска до Туруханска, был человеком, когда-то получившим приличное образование, но основательно забывшим учение за исключением свода законов и уложений Государства Российского. Притеснять Шаховского он не решался, так как окружной начальник как-то неопределенно промямлил, что скоро предстоит торжественная коронация императора Николая I и кто знает, как далеко распространится монаршая милость. Старый служака помнил времена, когда не успевшие по повелению царя Павла дойти до поселения воинские части с командирами и сосланные петербургские сановники возвращались повелением императора Александра. Исправник уяснил: соблюдая законность и предписания, - не проявлять чрезмерного служебного рвения. Да и обогнала Шаховского весть, что губернатор обошелся с ним милостиво. Ну, а коли губернатор... Однако исправник, как-то услышав упоминание о Радищеве, не выдержал: "А господин Радищев, помнится..." - Радищев, господин исправник, был возвращен из вечной ссылки императором Александром, - не сдержался Шаховской и тут же одернул себя... "А, черт, ведь давал слово - не вступать в разговоры с чиновниками!" - Добавил примирительней: - Я вспоминаю слова Радищева, одобренные императором Александром: "Могущество Государства Российского будет произрастать Сибирью". Невольное опасение исправника при одном упоминании имени Радищева заставило задуматься и Шаховского. Воспоминания захватили его. Снова раздумья овладели им. Но странное дело! - почему-то сейчас они не были так мрачны и безысходны, как в камере Петропавловской крепости. "Радищев, - повторил про себя Шаховской, - вопреки прощению императора и приближению ко двору - даже здесь, во глубине Сибири, ты остался для чиновника, как опасный вольнодумец... Но только ли чиновника? А в душе народа? Матушка- императрица, в гневе великом, объявила тебя злодеем "пуще Пугачева". Значит и Екатерина понимала зажигательность твоих идей? А народ? Народ русский охочь до "красного петуха" и до топора, к коему призывали гневные строки "Путешествия" и "Вольности". - Шаховской зябко передернул плечами: - Бунт черни подобен лаве вулкана. Она неотвратима и всесокрушающа". И Шаховской невольно вступил в давний, но так и неразрешенный спор с самим собой. Вспомнились строки "Путешествие из Петербурга в Москву". Один из счастливо сохранившихся полных списков произведения дал ему прочитать член тайного Общества Михаил Александрович Фонвизин. Это было незадолго до ареста. Генерал Фонвизин - один из блистательных героев Отечественной войны, как и многие молодые офицеры, страстно ненавидел самодержавие, деспотизм, тупую солдатскую муштру и крепостничество. И тем не менее он твердо стоял на своих позициях. Глубоко и искренне уважая Пестеля, он доказывал ему, что в настоящих условиях республиканская Россия - утопия. - Республика, - говорил Фонвизин, - это значит, Павел Иванович, упразднение классовых привилегий, иначе - дворянства. Вспомните, какую борьбу, тяжелую и кровавую, пришлось выдержать Петру Великому, чтобы боярскую Думу заменить Сенатом? А ведь он, царь, не покушался на самое суть: на дворянство. Вы, я, Никита Муравьев, получивший недавно в наследство новые десятки тысяч десятин земли, готовы пожертвовать всем во имя общего дела. Да только ли мы? Но разве сотня-другая дворян, членов Общества, это вся дворянская Россия? Подумайте, как воспримут другие, живущие только одним - подневольным трудом крепостных, упразднение не только рабства, но и ликвидацию всех привилегий? На ближайшем обозримом этапе я вижу Россию как конституционную монархию. Постель, это была их последняя встреча в Москве, после которой его, боясь новых, еще более серьезных разногласий, не пригласили на московский съезд двух обществ в 1823 году, нервно заходил по комнате. - Но ведь вы, лично вы, Михаил Александрович, еще в семнадцатом году одобряли план Лунина, направленный на убийство царя! И, насколько я знаю, одним из первых вызвался осуществить этот план князь Шаховской, за что получил прозвище "тигра". Но сегодня я не слышу от Федора Петровича могучего и смелого рыка. Разве, что мяуканье, - Пестель доброй улыбкой попытался сгладить резкость своих слов. Все это до мельчайших подробностей всплыло в памяти Шаховского. Обо всем этом, о трудном и прекрасном десятилетии он вспоминал не раз, а сотни раз. Но что "воспоминания" в Петропавловской крепости! Их требовала Следственная Комиссия. Нужно было не вспоминать, а забывать детали, чтоб не навредить товарищам. Именно тогда, после горячего спора с Пестелем, когда тот упрекнул Шаховского в нерешительности, воскликнув на прощание: "А все-таки будет республика", - Фонвизин неожиданно сказал: - Да, Павел Иванович. Я тоже убежден: в России будет республика! - Все замолчали вдруг, пораженные. Но Фонвизин опередил вопрос вопросом. - Но когда? Вы настаиваете на немедленном государственном переустройстве. Я же говорю о будущем. Почему мы отказались тогда, в семнадцатом году, от убийства тирана? Пришли к верному убеждению: нас мало, и Союз спасения, кучку патриотов, надо расширять, реорганизовать, выработав более обширную программу. Группа военных заговорщиков, даже убив царя, не могла бы осуществить переустройство государства, как ничего не смогла сделать группа Палена, убив императора Павла. Но тогда на повестке дня не стоял даже вопрос о конституционной монархии. Была ставка на просвещенного монарха. А достаточно ли сегодня у нас сил, чтобы свершить коренное переустройство? Кто пойдет за нами? У нас много своих роялистов. Не получим ли мы свою Вандею? Подумайте, наконец, и о возможных, непредвиденных сейчас, но ужасающих последствиях неуправляемого бунта. Радищев и Дмитрий Фонвизин, мой дядя, работали над проектом конституции. И право, их планы были не плохи... Михаил Александрович не закончил тогда свою мысль, но вскоре пригласил к себе Шаховского, подал книжку Радищева. - Прошу, Федор Петрович, читать здесь, у меня дома. Это был экземпляр первого издания книги "Путешествие из Петербурга в Москву". В 1806 году вышло собрание сочинений Радищева. "Путешествие" не было включено в него. Важнейшая работа первого революционера оставалась под строжайшим запретом. Шаховской несколько раз перечитал подчеркнутый рукой Фонвизина абзац. "О, если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили "железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ и кровью нашей обагрили нивы свои, что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулися великие мужи для заступления избитого племени, но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишены. Не мечта сие, но взор пронзает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающее". И тогда, впервые, Шаховской честно признался себе, что он не видит этого будущего, где вместо веками сложившейся элиты просвещенных людей будет царствовать ныне безграмотный мужик. Нет. Шаховской вовсе не был ограниченным, с кастовым предрассудками человеком. Он знал, что великий Ломоносов вышел из крестьянской семьи, что зодчий Воронихин, художник Тропинки, актер Щепкин были из крепостных. Но мужики во главе государства? Это было выше его понимания. Да и не только его. И откровенно пугал его ужасающий призыв Радищева к всенародному восстанию, к избиению племени дворян. Женившись на княгине Наталье Дмитриевне (урожденной Щербатовой), женщине высоких нравственных качеств, высоко образованной, что было редкостью среди аристократок, он, уйдя в отставку в чине майора, переехал в Нижегородское имение Ореховец, чтобы создать образцовое хозяйство. Но молодожены застали там ужасающие последствия пожара и в первую очередь оказали крестьянам большую помощь. Действия молодого помещика вызвали резкое неудовольствие соседей и настороженность властей: Шаховской отдал крестьянам всю пахоту, снизил оброк и вместо барщины нанимал работников за оплату. Губернатор Крюков (отец двух сыновей-декабристов) донес царю, что Шаховской "...наполнен вольнодумством и в разных случаях позволяет себе делать... суждения, совсем неприличные и не могущие быть терпимыми правительством". Императору Александру уже было известно имя Шаховского по причастности к возмущению Семеновского полка, где служил Шаховской, у него на квартире был произведен обыск. То, что никаких бумаг не было обнаружено, насторожило еще более: царь знал о существовании Союза Спасения. По делу Семеновского полка Шаховского не привлекли; жандармы еще не догадывались, что роспуск Союза - фиктивный и что вместо него созданы тайные общества: "Северное", "Южное" и "Соединенных славян". Кроме того Шаховской уволился из армии, "уединился от общества, отошел от активной деятельности" (так определило следствие). Еще до доноса Александр I получил от Шаховского "Особую записку". Она вызвала раздражение советами по его (Шаховского) примеру улучшить агрономическую обработку земли, сельхозорудий и рядом других нововведений. Но она была изложена, хотя и откровенно, в духе благожелательном: - "...Проживая в краю, столь щедро одаренном природой, - писал Шаховской, - с удивлением замечал я, что вместо возрастающего благосостояния бедность в народе, особенно между помещичьими крестьянами, - увеличивалась ежегодно. Прилагая все силы к исследованию предмета, столь близкого сердцу российского гражданина, осмеливаюсь подвергнуть к стопам государя моего сделанные мною замечания". Придраться было не к чему: все было благопристойно. Не написал Шаховской о главном "замечании" - о программе тайного общества - отмене крепостного права и упразднении монархии... Аресты обошли стороной нижегородского помещика, но Шаховской, наивно полагая, что деятельность общества, направленная единственно на благо любимого отечества, ничего предосудительного не имеет и аресты - только выяснение обстоятельств, пишет 2 марта 1826 года губернатору: - "Желая ускорить оправдание мое перед лицом Государя Императора (Николая I), покорно прошу отправить меня в С.-Петербург". Шаховской не считает себя виновным перед Николаем: он вызывался убить царя, но Александра. Да и было это давно - в 1817 году. Ответы его Следственной комиссии откровенны, полны достоинства, но не задевают никак остальных членов. - "В содействии Союза Благоденствия движим был убеждением, что в оном, кроме добродетели и нравственности, - ничего не было". Шаховской был единственным из декабристов, не назвавшим ни одного имени руководителей, не сообщившим о "сокровенной сути" - Конституции, отрицавшим деятельность Союза Спасения. Он начисто "забыл за давностью лет" совещание 1817 года, где он вызвался убить царя, за что получил прозвище "тигра", и царь припомнил его "забывчивость" и "злостное отсутствие чувства раскаяния". Шаховской не знал, что в делах Следственной комиссии лежит донос Блудова: "Во время сих прений (об Уставе. - Ж. Т.) на одном собрании, где находились Александр, Сергей, Матвей, Никита Муравьевы, Якушкин, Фонвизин, Лунин и кн. Шаховской, родилась или, по крайней мере, была объявлена в первый раз ужасная мысль о цареубийстве". Шаховской отрицал и этот факт. И вот - вечное поселение в Сибирь. Царь издевательски определил местом ссылки Туруханск. Ранее он назывался Новой Мангазеей, у истоков которой стоял Мирон Шаховской. Воспоминания о прошлом не мешали Шаховскому пристально наблюдать и все свои наблюдения заносить в дневник, о чем настойчиво советовал ему Степанов. - Судьба ваша, Федор Петрович, - говорил на прощание губернатор, - может перемениться самым неожиданным образом. А то, что видите вы дорогой, мало кому из людей любознательных и образованных доводилось видеть. Наблюдения ваши могут сослужить несомненную пользу для науки, для просвещения народа. Сибирь не столь ужасна, как кажется издали. Все дело в развитии ее. А для развития нужны обширные знания. Очень сожалею, что наш местный естествоиспытатель Прохор Селезней в путешествии. Человек он обширнейших знаний и горячий, прямо-таки неистовый патриот Сибири. Он дал бы вам более основательные советы. Но и Александр Петрович был человеком незаурядным, жадным к знаниям: он сумел заразить Шаховского идеей, что наблюдения его и записки могут быть полезными для будущности Сибири. А приобщение тамошних жителей к земледелию было бы практической пользой сегодня. И теперь, ведя дневник и вспоминая последнюю ночь в Петропавловской крепости и "казнь", придуманную императором Николаем, и злую реплику Ивана Якушкина, и горячие слова Михаила Лунина, Шаховской улыбался как человек, пришедший к какому-то важному и новому решению. Михаила Лунина он уважал и несколько побаивался за острый язык. Язык у Лунина, действительно, был, как бритва. Рассказывали, что царь Александр, недовольный его проделками, бросил ехидно в обществе: - Говорят, Лунин, вы немного не в своем уме? - То же самое говорили и про Колумба, государь! - дерзко ответил тот. Дерзкими были и слова Лунина, обращенные к товарищам-декабристам после свершенной экзекуции. По приказу императора над узниками была совершена "политическая казнь". Пущин, Якушкин, Лунин и другие "перворазрядники" были приговорены "за умысел цареубийства" к смертной казни. Затем была объявлена "милость царя" - вечная каторга. Шаховской был приговорен к вечной каторге, замененной, по заранее спланированному сценарию, вечной ссылкой в Восточную Сибирь. Но это было еще не все. Всех заключенных вывели во двор до рассвета. Ярко пылали костры. Их построили в отдельные каре. Над головой каждого ломали заранее подпиленные шпаги, что должно было символизировать лишение дворянской чести. На кронверке крепости в утреннем сумраке виднелось очертание виселицы. Шаховской был бледен, но внешне спокоен. Он, как и все, шел в каземат в колонне узников, уже облаченных в арестантские халаты, с насмешливой улыбкой на губах, переговариваясь последний раз в жизни с Иваном Якушкиным. Тот говорил нарочито громко: - Паяцы чертовы! Толком шпагу надпилить не могли. Треснули меня по голове, чуть не привели в исполнение первый приговор. А Лунин оглянулся, помахал им рукой. Шаховской невольно улыбнулся - вид Лунина был смешон: гусарские лосины, шлепанцы на босу ногу и короткий арестантский халат. Перед тем, как их построили в колонну, Лунин собрал вокруг себя друзей. - Нас считают авантюристами? Клевета! Не гибель династии, а свобода нашему народу - вот наша цель. И нам надлежит раскрыть истинную нашу задачу. Ради только этого нужно сохранить жизнь на каторге! Мы не оперные злодеи. Это над нами устроен фарс. И я найду силы поведать миру, как всей этой подлой комедией дирижировал самый подлейший из всех комедиантов - Николай! Шаховской невольно поморщился: слова Лунина показались ему в ту тяжелую минуту неуместными. "Снова никчемные, громкие фразы о нашей "великой цели". Цель впереди - каторга и ссылка. Мы опозорены в глазах общества. Мы заговорщики, дворцовые интриганы. С этим клеймом мы и уйдем из жизни. К чему высокие слеза? Наши имена будут забыты раньше, чем мы уйдем из жизни". С этой мыслью покинул он Петропавловскую крепость. Эта мысль терзала Шаховского всю долгую дорогу до Красноярска. Нет, не всю! Он не мог не замечать трогательные знаки внимания со стороны простых людей, сочувственные, какие-то извиняющиеся улыбки встречных офицеров, чиновников. В Красноярске приятно удивил его порывистостью и неприкрытой восторженностью юный Николай Степанов. Сам губернатор, умудренный опытом, был более осторожен, чем его сын, и, как ни странно - более понятен. Он подробно рассказал о своей деятельности, о планах, как бы приглашая принять в них посильное участие и уж никак не предаваться отчаянию. Этот деловой разговор более всего успокоил Шаховского. И призыв Лунина "рассказать всю правду" - казался еще более неуместным, никчемным. Кому нужна эта правда? Насмерть перепуганному свету? Забитым шпицрутенами солдатам? И все же где-то в глубине души теплилась и зрела мысль: "Мы не забыты. В глазах народа мы мученики за них, а не "государственные преступники". Нужно ли убивать своими показными добродетелями и смирением это святое зерно? А если оно, вопреки всему, не мертво, а стремится прорасти?" Федор Петрович Шаховской был доставлен в Туруханск 7 сентября 1826 года. Туруханский исправник Воскобойников донес об этом событии рапортом. А чтоб начальство не усомнилось в личности "государственного преступника", прибывшего на поселение, дал словесный портрет с чисто полицейской тщательностью: "...Федор Шаховской ростом 2 аршина 8 1/2 вершков. От роду - 30 лет. Волосы на голове и бровях светлорусые, бакенбард не носит, глаза темно-голубые, лицом бел и худощав, нос прямой, подбородок выдавшийся вперед. Особенные приметы: на верхней губе, с левой стороны, небольшая бородавка". (Приведенный выше и все последующие документы, рапорты, донесения, письма взяты без изменения с копий и подлинников с сохранением орфографии и пунктуации (Прим, авт.). Да, губернатор Степанов сказал правду: только несколько древних, вросших в землю, домов, со следами мастерской рубки, сохранили на себе отблеск "златокипящей Мангазеи". Давно прошли те времена, когда каждую весну мимо Туруханска на Нижнюю Тунгуску проходило по 500 - 700 человек на промысел пушного зверя, когда туруханская ярмарка собирала по нескольку тысяч людей: вольные промышленники, веселые свободолюбивые поморы, гости из Новгорода, Ярославля и самой Москвы-матушки разгоняли вековую глушь. Прошли времена, когда вольные промышленники спокойно жили бок о бок с инородцами, когда жизнь держалась не на страхе, не на оружии, а на взаимном доверии. Да и ясак когда-то был терпим. Оскудела тайга, ушли промышленники, обеднели тунгусы, а налоги возросли. И какие налоги! На дорогу, на дома, на бани. Это для кочевниковто? Налоги шли в карманы чиновников. В ход пошли водка, обман, грабеж. Остались жить те, кому деваться некуда, забывшие дела своих дедов и забытые миром. Томились насильно водворенные казенные крестьяне, военнопоселенцы - озлобленные казаки, кляня "гиблую" землю, остались мелкие купчишки, надеясь обмануть вконец, разоренных тунгусов и обманывая между делом своих, русских, которых и русскими-то уже назвать было нельзя. Забыли они земледелие, забыли веселый перестук топоров своих дедов, ставивших дома-теремки, оплетенные деревянными кружевами. Ни ремесла, ни промысла. И ютились обрусевшие тунгусы и отунгусившиеся русские кто в чумах, кто в голомо-полуземлянках. Жизнь остановилась на месте. Вот о таких поселениях и людях сто лет спустя писал Вячеслав Шишков: "Кругом простор и нет простора: ноги крепко вросли в землю, душа без крыл. Удивительно живут люди - камни какие-то". Наверное, таким же было первое впечатление Шаховского, когда обходил он Туруханск в поисках жилья. Одни дома были слишком бедны, в других встречали неприветливо, прослышав, что доставлен со стражниками и даже с енисейским исправниками - государственный преступник. Та вольнолюбивая струнка, которую приметил Шаховской у сибиряков, словно лопнула, накалясь от мороза. Они были слишком оторваны от цивилизованного мира и придавлены не то чтобы нуждой, а постоянной борьбой за существование. У них не было даже привязанности к земле, как у самых бедных крестьян России; они жили одной надеждой на Енисей-батюшку да тайгу-матушку. Только тайга чаще оборачивалась злой мачехой. Обойдя безрезультатно село, Шаховской вернулся в приказную избу. Даже официальные лица, не говоря о жителях, называли так, по старинке, канцелярию Окружного управления - "приказ", "приказная изба". - Не пускают, господин Шаховской? - ухмыльнулся исправник Воскобойников. - Ну я им, шельмам, сейчас мозги просветлю. Ишь, разборчивые варнаки. - Я бы не хотел так, вопреки желанию хозяев, господин исправник, - возразил Шаховской. - Я готов купить дом или часть дома. На зиму. Ну, а будущей весной, пожалуй, и начну свой строить, с вашего разрешения. Жить, полагаю, не один год. - Он спокойно и чуть иронически улыбнулся. - Господин исправник! - вмешался писарь, разбитной и смазливый, - ежели господину... Шаховскому желателен дом, не пройти ли мне с князем... прошу прощения, с господином Шаховским до Анисьи Сусловой? Дом просторный, а. бабка в нужде. Это вдова отставного сотника. Утоп он три года назад, - пояснил писарь Шаховскому с учтивостью. Писарь смекнул: коли дом купить собирается - то уж чаевые, они, почитай, уже в кармане звенят. Бабка Анисья оказалась не бабкой, а пожилой женщиной строгой иконописной красоты. Смуглость кожи, следствие северного солнца и жестоких ветров, оттеняла белоснежная кайма домашнего платка. Поверх него другой, черный платок. Из-за спины Анисьи выглядывала сероглазая девочка лет четырнадцати. То, что Шаховской назвал ее не бабкой Анисьей, а по имени-отчеству, как госпожу какую-то, Анисьей Семеновной, удивило хозяйку. Гость не был похож на каторжника. А какие они, государевы преступники, Анисья не знала. Муж когда-то говорил о таких: "...стало быть, супротив государя", но и сам толком не знал, что это такое; в Туруханск же еще никого не ссылали, кроме как в Троицкий монастырь провинившихся монахов. Дом был чистый и довольно просторный: кухня и две горницы, соединенные прихожей. Шаховской уже знал от словоохотливого писаря, что Анисья живет с внучкой Ариной. Родители девочки осели в дудинском зимовье, куда бабушка Арину не пускает. Да и родители не настаивают очень: лишняя обуза в маленьком холодном домишке. Мужик промышляет зверя и рыбу - надеется встать на ноги. Да не фартит. Шаховской, опять удивив хозяйку, спросил разрешения сесть. - Вы, Анисья Семеновна, вероятно, уже прослышали, что я - государственный преступник? Но поверьте мне - я никого, кроме врага на войне, не убивал. Не грабил, не тратил казенных денег. Вина моя в том, что ослушался государя-императора. Веры я православной. Женат. Есть сын. По причине малого возраста сына и беременности своей жена не могла следовать со мной. Но может и приехать. - Да чего ты передо мной, как перед попом на исповеди, милай? - растаяла Анисья. - Знаю уже - жилье тебе надобно. Чего же сразу не зашел? И я не супротив, да вот и внучке ты вроде приглянулся. А касаемо провинности - не моего это бабьего ума дело. По обличью вижу - не варнак. - Ну и расчудесно, - ответил Шаховской. - А если Арина кое-что по хозяйству мне поможет - так я отдельно заплачу. - А сейчас, любезный, - повернулся Шаховской к писарю, - будь добр, найди людей, чтоб принесли вещи. И вот что еще, - он протянул ассигнацию, - купи пару бутылок вина, сладостей... Наутро Анисья вернулась из приказной избы расстроенная. Шаховской, напротив, был впервые за долгое время оживлен, почти что весел: вечером, "на минутку", справиться, как устроился новый житель Туруханска, забежал исправник Воскобойников. За бутылкой вина он был прост и обходителен, разговоров неприятных не вел, а подчеркивал даже, что жилье будет спокойным и никто притеснять, он многозначительно произнес, "опального князя Шаховского" не будет. Повернувшись к хозяйке, произнес еще более многозначительно: - Знаешь, Анисья, какого я тебе жильца направил? Не знаешь. А вот кого: у Федора Петровича был предок, звали его боярин князь Мирон Шаховской, и он основал Мангазею. И по его повелению пришли люди сюда, заложили Туруханский острог. Разумеешь? Исправник Воскобойников оказался довольно образованным человеком. Намекнул между прочим, что и сам оказался здесь не по доброй воле и ждет не дождется нового назначения. И человеком он казался неплохим. Все началось лучше, чем предполагал Шаховской. Потому и проснулся он поутру в прекрасном расположении духа. Спросил хозяйку с улыбкой - Что-то вы не в духе, Анисья Семеновна? А утро-то просто чудо! Вот не думал, что на Севере может быть такая дивная осень. - Расстроишься, барин, - села на лавку Анисья. - Недоимки требуют, да и подушную подать раньше сроку. - Да вы не расстраивайтесь, Анисья Семеновна. - Шаховской отодвинул чашку. - Я уплачу вам сейчас за постой вперед за год. Или давайте так: продайте мне половину дома? Я вас не сживу, не бойтесь. А если дом построю - пусть ваша половина у вас и остается. Глаза у Анисьи просветлели. Она затеребила край платка - Это как же, барин? Полдома купишь, а он вроде и наш? Не пойму что-то... - Ну, ладно, - рассмеялся Шаховской. - Полдома я куплю тотчас. Дело к зиме, и вам для хозяйства деньги нужны. Верно и шубки у Арины нет? А ежели построю дом, вы будете со мной рассчитываться по частям, лет десять. Мне ведь не к спеху... - Добрый ты человек. Вон исправник-то вчера сказывал про тебя - князь, вельможа, а ты прост, как самый ни есть простой человек. - А я и не князь и не вельможа, - усмехнулся Шаховской, - все это в прошлом. Нет у меня титулов, как я у тебя, Анисья Семеновна. И не зови меня барином. - Спасибо, барин... Федор Петрович. Я спокойна теперь. И суседам помогу. А другим-то - худо. Не избежать порки. - Как это порки? - Шаховской встал. - За что пороть грозился исправник? - За недоимки, барин, - Анисья вздохнула. Шаховской, накинув бекешу, вышел из дому. - Господин исправник, господа! - прямо с порога обратился он к обоим исправникам. - Хозяйка только что сказывала мне - вы собираетесь... наказывать недоимщиков? - Господин Шаховской, - ехидно улыбнулся енисейский исправник. - А как, позвольте спросить, поступал ваш управляющий с вашими крепостными, не уплатившими оброк? Шаховской побледнел, но сдержался. - Как только я вступил во владение поместьем, я раздал пахотные земли крестьянам, назначил оброк сообразно действительному положению в хозяйствах, полностью отменил барщину и стал нанимать работников. Разоренным после страшного пожара крестьянам села Ореховец оказал безвозмездную помощь. - Усмехнулся. - Господин нижегородский губернатор Крюков, кстати отец двух таких же, как и я, государственных преступников, написал донос, что я развращаю своих крестьян, подавая дурной пример соседним. И это также мне было поставлено в вину. - Помолчал, вновь повторил вопрос: - И как велики недоимки туруханских жителей? Исправник Воскобойников заглянул в журнал, ответил сокрушенно: триста семьдесят рублей. - У меня есть в наличии четыреста рублей, - Шаховской полез в карман - соблаговолите принять их. И прошу вас, избавьте людей от наказания. - Господин Шаховской, - усмехнулся енисейский исправник, - ваша филантропия делает вам честь. Только позвольте спросить - вы всех туруханских жителей намерены взять на свое попечение? Благотворительность не лучшее средство против лени. Так вы очень скоро наплодите нам бездельников. И притом принять от вас взнос... - Господин Шаховской, - поспешил вставить слово исправник Воскобойников. - Ваше доброе намерение избавляет нас от лишних хлопот. Но ваш взнос... Как записать его, если у каждого жителя различные подати? Не лучше ли... - мягко закончил он, стараясь не замечать колючего взгляда енисейского исправника. - Не проще ли будет вам самим раздать деньги жителям? И каждый житель, как полагается по закону, явится сюда, уплатит подать и получит соответствующую расписку? Как ни странно, Анисья Семеновна разделила мнение исправника и наотрез отказалась разносить деньги по домам. - Ты, барин, своим деньгам хозяин, тебе видней как поступить. Только доброта без меры и ребенку помеха. Иному и розги нужны. Думаешь, всех только нужда задавила? Ан нет! Иных и лень, и вино. Эвот как. Вот на летней ярмарке увидишь, как загуляют мужики. Таким помога, что лишняя чарка - во вред. Позовука я старосту. Он человек справедливый. Подскажет, кому дать в руку, а кому и в морду... После этого случая отношение местных жителей к Шаховскому резко переменилось. Рыбаки частенько посылали ребятишек со свежей рыбкой - побаловаться то стерлядкой, то осетринкой, то нельмой, то муксуном. А уж о жирной, тающей во рту селедке-туруханке и говорить нечего. Ребятишки шли к Шаховскому охотно: и карамелькой угостит, и сказку интересную скажет. Потянулись к нему и взрослые, "на огонек", послушать о войне с Бонапартом. Шаховской, между тем, узнавал впервые так близко условия жизни того самого народа, о котором так много говорили, спорили... Мужики, становясь откровеннее, поругивали порядки и местную власть, да так, что Федор Петрович переводил разговор. Чаще он рассказывал о земледелии, помня совет Александра Петровича. Мужики смущались, почесывали затылки. - Мерзнет здесь все. Как есть все мерзнет. Репу сеяли - вымерзает. Одна редька кое-как держится. Да чего с нее проку? Разве что с квасом, на опохмелку, - посмеивались они. - А вот будущей весной попробуем! - не сдавался Шаховской. - Велик ли труд несколько гряд вскопать возле дома? Семена у меня есть, и я дам их безвозмездно. - Коли так - попробуем, - соглашались мужики без энтузиазма. - Чего там! Однако - померзнет. Шаховской, не желая обострять отношения с исправником, несколько раз заходил к нему, приглашал послушать беседы. Воскобойников посмеивался. - А я и без присутствия знаю темы ваших бесед. Ничего предосудительного в них пока не вижу и взаимоотношения с местными жителями считаю пристойными. А вот рассказы о кампании с Наполеоном - послушаю. Намерение ваше открыть школу для детей - на мой взгляд - полезное. Но надобно испросить согласия губернатора. В очередном рапорте о поведении "государственного преступника, находящегося на поселении", написал, однако, двусмысленно: "...Шаховской из 400 имеющихся в наличии рублей 370 раздал местным жителям, отчего от жителей имеет особое расположение..." Все изменилось с внезапным отъездом исправника. Простились они довольно дружелюбно и тот шепнул на прощание Шаховскому: - Исполняющим мои обязанности остается сотник Сапожников. Он, разумеется, будет выслуживаться изо всех сил. Постарайтесь не портить с ним отношений. Легко сказать - не портить. Старый, малограмотный служака из кожи лез, чтоб добиться постоянной должности исправника - не очень обременительной в этом, богом забытом краю, но при определенной ловкости весьма доходной. Для него Шаховской был всего лишь "государственный преступник", не более. И о вверенном его попечению лице, как гласило предписание жандармского управления, он, Сапожников, исполняющий обязанности исправника, должен нести неукоснительное наблюдение. И он вел это "наблюдение", заходя, когда ему вздумается, в комнату Шаховского, бесцеремонно, в его отсутствие, ворошил бумаги на столе, допекал расспросами, описывал в рапортах каждый шаг. 10 ноября 1826 года в рапорте за № 816 он написал: "Государственный преступник Шаховской ведет себя благопристойно и никаких за ним закону противных поступков не замечено, кроме того, что он, Шаховской, намерен был отправить куверт". Этот "куверт" - подробная записка на имя директора Петербургского ботанического сада академика Фишера и гербарий северной флоры - вызвал серьезные столкновения и окончательно испортил отношения Шаховского с Сапожниковым. Еще по пути в Туруханск Шаховской отметил, как с приближением к северу меняется растительность. Он пришел к правильному выводу: чем выше широта, тем ниже растения. Низкорослые, карликовые деревья - не особая порода, а изменение вида под воздействием температуры, состава почвы и наличия вечной мерзлоты. И Шаховской был первым, кто заметил эту закономерность и сделал важнейший вывод: многие виды растений - деревьев, овощей, злаков могут приспосабливаться к другим климатическим условиям. Растения можно "приучить к Северу, как привык к нему человек". Сапожников несколько раз спрашивал, заходя к Шаховскому, с какой целью он рисует карту. Это была климатическая схема. Шаховской вначале пытался разъяснить ему, что это такое, но безуспешно. Задержав "куверт". Сапожников решил таким образом отомстить строптивому ссыльному. Вызвав Шаховского, он потребовал объяснить, что и с какой целью он направляет в Академию. Письмо он вскрыл, хотя и не имел на это права: по существующему положению этим официально занималось III отделение - иначе жандармское управление. Ничего не поняв из прочитанного, он и потребовал объяснения. Посланный за Шаховским писарь, уже не просто из определенного расчета, а из искреннего расположения убеждал Федора Петровича не вступать в спор с исправником. Вы уж помягче, господин Шаховской, ведь, как говорят в народце, плетью обуха не перешибешь. Но "помягче" Шаховской не мог. Едва глянув на конверт и поняв, что его вскрывали, не сдержался: - Как вы смели, господин Сапожников? - Но-но, сударь, не забывайтесь! Шаховской, поняв, что "забылся", сказал, приведя исправника в робость: - господин Сапожников! Как вы изволили прочитать, адресую я письмо не просто Российской Академии, а Императорской! Надеюсь, вам понятно, что это официальное учреждение и письмо предназначено лицам, пользующимся доверием его Величества? Я вынужден буду сообщить о задержке и вскрытии письма в департамент полиции! Отлично понимая, что вконец портит отношения с Сапожниковым, он все же написал на имя Бенкендорфа жалобу на задержку писем, уведомляя, что и без этого они крайне редки: почта приходит раз в месяц, а в весенне-осеннюю распутицу и того реже. Не знал Федор Петрович, что большинство его писем, даже к жене, задерживается именно III отделением. Оторванный от мира, он испытывал тяжелейшие душевные муки, что вскоре сказалось и на здоровье. Появлялись мысли о смерти. Поэтому он писал: "Жену свою оставил в тяжелой беременности, с мучительными припадками, с нею сын наш Дмитрий по 6 году... Но если несчастье постигнет меня и последняя отрада исчезнет в душе моей с ее жизнью, то одно и последнее желание мое будет, что сын мой останется на руках ее семейства, в роде отца ее князя Дмитрия Михайловича Щербатова..." В ответ на отчаянное письмо - гробовое молчание. Даже радостное письмо жены о благополучных родах было задержано на три месяца. 17 декабря Шаховской был вызван в канцелярию окружного управления. Он знал: прибыла почта и есть что-то "касательно его" и шел торопливо, прикрывая лицо от ледяных порывов ветра. По лицу Сапожникова понял ссыльный, что произошло нечто необычное. И не ошибся. Жалкая кроха монаршей милости согрела отчаявшуюся душу. Губернатор Степанов, едва получив в связи с коронацией царский указ, со специальным фельдъегерем отправил его в Туруханск, чтобы чуть-чуть обнадежить несчастного изгнанника. "По чувствам милосердия, желая в сей торжественный для нас и России день, облегчить еще более жребий сих преступников, повелеваем: сосланного в Сибирь на поселение бессрочно Шаховского, оставить на поселение на 20 лет". Облегчить еще более! Каков цинизм! Но все же, хоть есть теперь какая-то надежда. Посмотрел на преисполненного важностью момента исправника. - Господин губернатор, - продолжал Сапожников, - предписал о таковом Высочайшем Его Императорского Величества повелении объявить находящемуся в Туруханске Шаховскому. Что я и сделал. Имею сообщить еще одно важное известие. - Сапожникову казалось, что сейчас-то отыграется он, а не этот бывший князь. - Господин губернатор... - уткнулся в бумагу, - "разрешает посылать письма кому угодно"... но! - исправник поднял палец, - "требует разъяснить: все письма будут препровождаться из почтовых контор ему, Степанову, для отсылки в III отделение". Шаховской к изумлению исправника улыбнулся почти весело. Он уловил во внешне грозном предупреждении губернатора хитрую уловку и тонкий расчет: до него дошла история с тем злосчастным "кувертом" Фишеру и Степанов решил как-то помочь ссыльному. Шаховской ответил со всей серьезностью, на которую он был способен при виде самодовольного служаки: - Господин исправник! Прошу покорно отписать господину губернатору Степанову о том, что государственный преступник Шаховской с подобающей его положению внимательностью выслушал предупреждение. Впредь Шаховской будет отправлять почту с ведома туруханского исправника, дабы на казенном втором конверте ставился адрес на имя господина губернатора. - Извольте! - Польщенный и обрадованный своей "победой" Сапожников расшаркался даже. - Именно так, слово в слово я и отпишу господину губернатору. Большего Шаховскому и не нужно было: он знал - Сапожников передаст все дословно и Степанов все поймет правильно. Действительно, исправник так и отписал, присовокупив в состоянии вдруг вспыхнувшего душевного расположения: "...ведет себя благопристойно и никаких за ним закону противных поступков не замечено". Но что можно взять из этих дурацких рапортов? Степанов попытался втолковать исполнительному служаке: "Рапорта ваши совершенно неудовлетворительны, ибо всякая неблагопристойность и противозаконные поступки сами по себе преследуются законом; но поведение разуметь должно - отношение и к самой нравственности". Сапожников, прочитав суровое письмо губернатора, взопрел от расстройства. Перечел еще раз и загрустил - "нравственность". - А как изволите понимать это слово, господин губернатор? Наконец, после тяжелых душевных терзаний, отписал. Несмотря на досаду, Степанов, не утративший чувства юмора, громко хохотал. "№ 5, от 1 февраля 1827 года. Господину гражданскому губернатору и кавалеру! Честь имею донести, что нащет нравственности Шаховского наружного распутства никакого не замечено, но каков же настоящий образ мыслей, проникнуть совершенно мне невозможно, по той причине, что часто временного с Шаховским обхождения иметь не могу, находясь в беспрестанных занятиях по делам службы. Относительно же расположения к нему жителей, как туруханскнх, равно и отживущих от Туруханска, вверх по Енисею, приобрел расположение через осуждение их деньгами, обещанием улучшить их через разведение картофеля и протчих огородных овощей, превозмещая им дешевизну хлеба и прочих вещей в быту необходимых, не сообразен ли таковой способ Шаховского в приобретении к нему от жителей расположения по настоящему роду жизни, о сем для благоусмотрения Вашему Превосходительству честь имею представить". Больше вопросов о нравственности губернатор не задавал. На рапорты отвечал ясно, не давая пищи для превратного истолкования. "Не следует воспрещать хозяйственных занятий, - и потому, ежели он разведет картофель и другие огородные овощи, что прежде в Туруханске не было, и будет их раздавать, или продавать жителям,то сие не может принести никакого вреда, кроме пользы". Несколько ободренный, Шаховской стал более деятельным. В свое время он прослушал курс знаменитого врача Лорера, приобрел некоторые познания в медицине и теперь решил пополнить знания, чтобы как-то помочь жителям Туруханска, в котором не было даже фельдшера. Удалось, наконец, начать занятия с детьми, правда не настоящие, школьные, как надеялся он, но и отдельные беседы и уроки письма и арифметики должны были в будущем дать какие-то плоды. А рапорта следовали из Туруханска один за другим. 1 марта: "Шаховской занятия имеет чтением книг, составляет из оных лекарства, коими пользует одержимых болезненными припадками... но в таком занятии никакого успеху не замечено". 1 апреля: "Принял на себя обязанности обучению малолетних детей здешних жителей, за что отцы к нему расположены..." С апреля у Сапожникова, преисполненного радужных мечтаний о карьере, прибавилась новая забота. [cледующая] |