

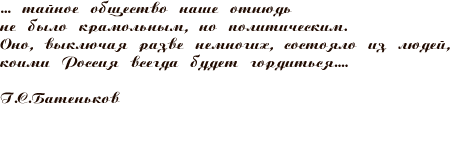




|
|

"ПО ЧУВСТВАМ МИЛОСЕРДИЯ..."Глухой, вьюжной зимой, хотя по календарю весна - конец марта, - у Полярного круга чуть приподнимается в полдень солнце над тундрой. Двадцать третьего марта, занесенный снегом, полузамерзший, полубольной, был доставлен в Туруханск еще один декабрист - Николай Сергеевич Бобрищев-Пушкин. Молодой офицер генерального штаба, поэт, был приговорен к десятилетней каторге, которую по "монаршей милости" заменили пожизненной ссылкой. Местом пребывания определили Средне-Колымск, зимовье в несколько домиков. Одиночная камера Петропавловской крепости, безысходное одиночество в снежной Колымской пустыне подорвали здоровье и душевные силы молодого человека. Его брат, Павел Сергеевич, тоже ссыльный, просил не за себя, за брата, умолял Николая I спасти от гибели несчастного. Как н на следствии, в прошении на имя царя, Павел Сергеевич, талантливый математик, - все брал на себя, утверждая, что Николай был втянут в дело, что примкнул к движению не по убеждению, а единственно из чувства привязанности к нему и что он готов принять еще более суровую кару во имя спасения брата, свершившего лишь ошибку. И монарх снизошел к мольбам. Место ссылки было заменено... на Туруханск. И срочно, невзирая на зиму, мороз, болезнь Бобрищева-Пушкина, понеслись по тысячекилометровым дорогам фельдъегерские тропки. Путь декабриста лежал через Якуток, Усть-Кут, Илимск и далее, по Ангаре. Не позволили ему сделать остановку и в Енисейске, до вскрытия реки - приказали следовать дальше. Преисполненный важности от решения государственного дела, в служебном рвении енисейский пристав Лалетин доставил его в Туруханск. Самолично. Шаховской тепло принял собрата по несчастью, радушно предложил свою маленькую комнатку. Впрочем, не предложил даже, а распорядился занести вконец ослабевшего от безумной скачки Николая Сергеевича, уложил в свою постель. Анисья Семеновна тотчас принесла клюквенного морсу и замерла, разглядывая горестно бледное, исхудавшее, заросшее клочковатой бородой молодое лицо еще одного "государственного преступника". На сунувшегося было Сапожникова зашипела, как рассерженная гусыня: - Не время, ваше благородие! Успеешь еще, казенная твоя душа, вынюхать все. Сапожников ушел. Когда-то он был в близких отношениях, а еще ранее в подчинении покойного сотника Суслова и ругаться с вдовой сослуживца до поры до времени считал неудобным. Или невыгодным. Анисья Суслова пользовалась влиянием среди туруханских жителей. Постояв в изголовье Бобрищева несколько минут молча, она вдруг прикрикнула на внучку: - А ты чего рот раскрыла, басурманка? Не понимаешь, язви-тя, что вешши таскать из горницы надо? Улыбнулась Шаховскому. - Давайте-ка, Федор Петрович, горницами меняться. Нам, бабам, и маленькой хватит. А друг твой не шутейно болен. Не простуда у него, а нервная горячка, - добавила она шепотом. - Душа истомилась. Вишь, какие глаза стылые? Да с тобой оттает, в душе твоей на всех тепла хватает, - и Анисья, вдруг покраснев по-девичьи, засуетилась, захлопотала. Через неделю новый поселенец окреп, встал на ноги и решительно заявил, что ему хочется жить одному. Уговоры не помогли. Он вел себя странно. То язвил над местными жителями, то вдруг раздал людям все: и деньги, и теплую одежду, заявив, что он теперь простолюдин и будет существовать на солдатском довольствии, установленном для ссыльных. А оно составляло 6 копеек в день и 2 пуда муки в месяц. Уговоры Шаховского, уже понявшего, что подобные пожертвования ничего по существу не меняют, что милостыня эта - капля в океане нищеты - не помогли. Подавленный, растративший уже в период следствия все силы, Бобрищев-Пушкин стал апатичен, бездеятелен и не верил ни в какую будущность. Жить он устроился, как докладывал все тот же Сапожников, "в дом мещанина Скорнякова". Первый рапорт сотник настрочил 28 марта 1827 года. "Об образе жизни его в краткое время узнать невозможно, кроме того, что он в состоянии бедного, показывает себя помешанным разсудка, впротчем на будущее время о поведении и образе жизни оного доносить Вашему Превосходительству не премину". Но и через месяц, кроме того, что "...читает духовные книги, обхождения со здешними жителями и разговора не имеет" - ничего нового он сообщить не мог. Когда бы ни заходил сотник, он видел Бобрищева за столом, заваленным духовными книгами, которые одолжил ему священник местной приходской церквушки. С ним он и проводил время в беседах, избегая Федора Петровича. Шаховской пытался расшевелить меланхоличного товарища, но тот досадливо отмахивался. - Ни к чему это, Федор Петрович. И ваши потуги заняться огородничеством на этой, богом проклятой земле и сеять зерна просвещения в головы мещан, а тем паче, аборигенов, все это тлен и суета сует. Мы - жалкие черви... Долг наш до конца нести тяжкий крест. - И потирая тонкой исхудавшей рукой высокий лоб, преждевременно изрезанный морщинами, горько иронизировал. - Помните историю России? Где оно, гордое племя славян по имени авары? Так и мы: "Погибоша аки обры, не оставиша ни имя, ни наследка". Вот вы читаете чудные сказки Пушкина. Возможно, люди запомнят их. И имя поэта запомнят. И Мирона и Семена Шаховских, благодаря Карамзину, запомнят. А вот Николая Бобрищева-Пушкина и Федора Шаховского государь постарается вымарать из памяти людской. Мы аки обры. Уж поверьте мне, Федор Петрович... И еще примите совет. Не надо "дразнить гусей". Зачем эти сказки о попе и балде, о глупых царях и Иванушках-"дурачках-умниках"? Не приведет это к добру. И гордыня ваша и независимость - не нравятся местному начальству. Вот заходил ко мне Сапожников, посмотрел одобрительно на эти святые писания и на вас пожаловался, на непочтительность вашу. - Бобрищев саркастически рассмеялся. - Вы знаете, Федор Петрович, - продолжал он, - в какой форме сотник настрочил на вас донос? Во-первых, проходя мимо, вы "фамильярно посмотрели" на дом исправника. Ну, эту дремучую глупость поймет "просвещенный монарх". Но не все же доносы так безобидны! За каждым нашим шагом следят, лезут с разговорами, вскрывают наши письма, суют нос в книги, в личные вещи... - Он побледнел. - Тяжко, Федор Петрович... И потом... меня мучают кошмары, дикие головные боли, галлюцинации... Вы знаете, конечно, недавно я выгнал на мороз своего хозяина, избил его... Я извинился, сослался на болезненный припадок. Но, кажется, это было наяву: Скорняков ночью прокрался в мою комнату, начал шариться по столу... Но кошмары действительно преследуют меня... Кровь... Падающие солдаты в снег... Визжащая картечь... Виселица... с еще пустыми пятью петлями. Шпицрутены... Вопли... Стоны... Барабанный бой рвет перепонки, бьет по мозгам... В северном сиянии я вижу кровь, она стекает на меня, я весь в крови... Федор Петрович, дорогой, ведь я схожу с ума!.. - Бобрищева затрясло. - И самое страшное, я понимаю это сам... Глаза его расширились и он протянул руку к окну. Вот видите, на снегу тень от ворот? - Сейчас я понимаю, что от ворот. Но эта тень, как от виселицы, преследует меня... Одна, огромная, над всей Россией, виселица в кровавом зареве этих леденящих душу сполохов! Я устал, Федор Петрович. Не отговаривайте меня. Быть может, монастырская благость, тишина кельи, духовные книги, в которых есть своя мудрость, - успокоят мою душу. Не отговаривайте и не вздумайте шутить, Федор Петрович. Мое решение обдуманно: я уже подал прошение в Святейший Синод. Шаховской ждал чего угодно, только не этого. "Боже! Ведь это же самоубийство! О какой монастырской благости говорит он, на память читавший "Декамерона" и восторгавшийся "Гаврилиадой"? Не местный ли Троицкий монастырь, с его настоятелем Апполосом, тихая святая обитель? Нет, ни за что!" Он решил бороться до конца и пустился даже на невинный обман, надеясь воздействовать именно на болезненную щепетильность и мнительность Бобрищева- Пушкина. - Николай Сергеевич! - осторожно начал он. - Я христианин и не позволю себе усомниться в вашей искренности, а тем паче - отговаривать вас. Порой и у меня мелькали подобные мысли, но я еще далек от какого-то решения. Но дело не в этом. Ты, Николай Сергеевич, открыл передо мной свою душу, излил боль. А обо мне ты подумал? Ты холост и не знаешь, что такое семья, - жена, дети. А я плачу по ночам. Один, в тоске, в душевных муках. Я надеялся на поддержку товарища, а ты нашел утешение в духовных книгах. По-дружески, по-христиански ли это? Или скажем честно: ты не доверяешь мне, как и Скорнякову? Если ты не согласишься жить со мной, я буду думать... Бобрищев вскочил, глаза его сверкнули гневом... Анисья Семеновна видела, как после перехода к Шаховскому, благодаря участию и лекарствам, постепенно оттаивает душа нового жильца. Несмотря на еще случавшиеся припадки глубочайшей меланхолии, ей нравился Бобрищев. А в Шаховском она и души не чаяла. Арника любила обоих одинаково. "Дядя Коля" был даже ближе: сердце девочки тянулось к слабому. А когда он был здоров, то пел забавные песни и помогал ей готовить уроки, над чем посмеивался "дядя Шаховской". Бобрищев-Пушкин даже начинал входит во вкус школьной деятельности. Здоровье шло на поправку. Видя все это, Шаховской решил поговорить с ним о создании в Туруханске частной школы. Николай Сергеевич внимательно выслушал его проект, улыбнулся. - А признайся, Федор Петрович, ты ведь не напрасно втравил меня в занятия с Арникой? Ты, как кошка, неслышно подкрадываешься, а хватка у тебя - тигриная. И кто дал тебе это прозвище - "тигра"? Лунин, наверное? - Помолчал, думая о чем-то своем и продолжал уже серьезно и убежденно. - Прожект твой, Федор Петрович, мне нравится. Если только родные пришлют деньги - внесу свой пай. Поправлюсь немного - буду, как и ты, вести беседы... На новом моем поприще - беседы или проповеди, как угодно - главная цель. - Ты о чем это, Николай? - Ты думаешь мое желание уйти в монастырь, это бред умалишенного? Нет, я действительно подал прошение, причем первое - еще из Средне-Колымска. Дальнейшую свою жизнь я мыслю на поприще миссионерства. И Троицкий монастырь, созданный монархом-просветителем Тихоном, имеет богатейшее книгохранилище. Подожди, Федор, не перебивай, - заволновался он. - Разве священнослужители - Нестор-летописец, Симеон Полоцкий, Палладий, Спафарий ничего не сделали для просвещения Руси? Вот откуда мой выбор... - Заблуждаешься, Николай! Согласен, эти люди сделали немало. Но когда? Когда не было светских школ! Но и это не все! Их успех - в непротивлении властям и догматам церкви. Ты вспомни мучеников, что подвергались наказаниям, хотя того же протопопа Аввакума. Ты вспомни судьбу Кампанеллы, Коперника, Роджера Бэкона! Свободомыслие еще долго будет встречать сопротивление, где бы оно ни проявлялось: в светской или духовной жизни, в армии или Академии. - В чем-то ты прав, Федор... - И закончил решительно: - А пока вот моя рука, я буду вместе с тобой проводить занятия! И не бойся - не на духовные темы. Это уже была победа. И Бобрищев действительно сдержал слово и беседы проводил интересно, с увлечением. Шаховской и не подозревал, что у его друга такие обширные познания и прирожденный дар педагога. - Да, тебе, Николай, - шутил он, - надо изменить фамилию: не Бобрищев-Пушкин ты, а Бобрищев-Коменский. (Ян Коменский - великий чешский педагог (авт.)). То, что Бобрищев-Пушкин подал прощение в Синод, с вполне понятной легкостью стало известно исправнику. Поэтому им был отправлен очередной рапорт. "Настроение его простирается в туруханский Троицкий монастырь для богомолья". Вероятно в связи с этим, а возможно и для ознакомления на месте с деятельной жизнью Шаховского, развернувшего широкую переписку с Императорской Академией наук, открывшем настоящую школу, в Туруханск выехал енисейский окружной начальник Бобылев, ловкий и осторожный чиновник, человек с болезненным самомнением. Дорогой он заболел и прибыл в Туруханск с мыслью, что ему, чего доброго, не придется возвратиться домой: он отлично знал о том, что в этой глуши нет даже захудалого лекаря. К счастью для него, Сапожников вспомнил о Шаховском и посоветовал пригласить его. Шаховской, добровольно взяв на себя обязанности лекаря, не считал себя вправе отказать в помощи и явился тотчас. За лечение он взялся всерьез и через несколько дней Бобылеву значительно полегчало. Может быть, болезненная слабость, а может быть радостное чувство выздоравливающего человека повлияли, но Бобылев, пригласив к себе Бобрищева- Пушкина, выслушал его внимательно, после чего написал губернатору Степанову обстоятельное письмо. "Находящийся в Туруханске Бобрищев-Пушкин с самого своего прибытия сюда был в величайшей степени ипохондрии, которая для людей недальновидных показывала его рассудок помешанным. Главная причина происхождения таковой сильной ипохондрии, как полагать с достоверностью можно: находящаяся в нем черножелчная болезнь, понесенное им наказание, раскаяние в своем преступлении, трудный переезд из Колымска в Туруханск, крайняя его бедность и даже нищета, в коей он и ныне находится. В разговорах он очень молчалив и печален, участь свою сносит с видимою горечью". Во время болезни Бобылев принимал ссыльных на квартире каждый день; Шаховского как врача, Бобрищева как собрата по болезни. В разговорах был ровен, слушал всегда внимательно, отечески внушал, что только достойное поведение может облегчить их участь. Отслужив молебен в честь своего избавления от недуга, Бобылев отбыл в Енисейск. Каково же было негодование декабристов, когда в присутствии не только должностных лиц, но и купцов, Сапожников огласил предписание отбывшего окружного начальника. "Объявить им (Шаховскому и Бобрищеву - Ж.Т.), призвав в канцелярию, чтоб они никогда ни выше, ни возле меня стоять не смели, а остановились бы наряду с прочими молельщиками н оказывали, как в церкви, так и во всех публичных местах должное званию моему уважение". И исправник, и судебный заседатель, и священник, и местное купечество были непрочь наладить отношения с ссыльным князем, потомственным дворянином, пусть сейчас "государственным преступником" (но ведь не все вечно под луной!). Но главное - человеком состоятельным, а для женщин - столичным кавалером. Но Шаховской не искал этого общества. Он водился с простолюдинами, копался в земле, в лекарственных порошках и травах, писал "заумные" письма, - словом занимался непривычными и подозрительными для них делами. Осенью 1827 года чиновный Туруханск всполошился. Сапожников не находил места. От самого губернатора Степанова пришло предписание - немедленно направить Шаховского в Красноярск. Причем предписание было изложено в форме, которая привела в смятение всех, кто еще вчера указывал Шаховскому, чтобы тот "не забывал своего положения". А тут еще строжайшая приписка енисейского окружного начальника Бобылева, который два месяца назад требовал "поставить бывшего князя на подобающее ему место". Испуганный Сапожников вновь и вновь перечитывал строки указания Бобылева и никак не мог уразуметь происшедшей с тем перемены. "Предписываю с получением сего губернаторского предписания немедленно направить из Туруханска в Красноярск в приготовленной крытой лодке находящегося здесь Федора Шаховского (уже не "гос. преступника", а на всякий случай, просто - Шаховского - Ж.Т.).... таким образом проделать путь, чтобы Шаховской не потерпел каких-либо неблагоприятностей, особливо по нынешнему времени. 1) Водным путем и иметь неустанное попечение о сохранении оного, ровно и об имении его, находящегося при нем. 2) По станциям до Енисейска для тяги лодки брать потребное число лошадей или собак, а буде оных не случится, тогда пристойное число людей. 3) По прибытии в Красноярск доставить Его Превосходительству". Сапожников посмотрел на писаря. - Ты бы, братец, сходил к господину Шаховскому, пригласил его в канцелярию. Или мне самому сходить? А ежели это государево милосердие и прощение? Не находил себе места и Бобрищев-Пушкин. Шаховской, скрывая безуспешно охватившую его радость, старался утешить товарища, подбодрить. Он видел, как постепенно оживает Николай Сергеевич, проникается интересом и к беседам, и к опытам огородничества, как охотно занимается с Ариной. Милая, бойкая и способная девочка, удивительно быстро освоившая грамоту, стала их общей любимицей. Даже какое-то чувство грусти охватило Федора Петровича при мысли о расставании с ней. А Аринка, радуясь за "дядю Шаховского" и терзаясь в предчувствии разлуки, спрятавшись подальше, горько плакала. Бобрищев-Пушкин, ругая себя за "дикий эгоизм", ничего не мог поделать с собой, глядя на сборы Шаховского. Тяжелое чувство ипохондрии, казалось, оставившее его, снова наваливалось неотвратимой тяжестью. - Николай, дорогой мой друг! - утешал его, как мог, Федор Петрович. - Прежде всего я еще не знаю, что ждет меня впереди. Может быть, монаршее милосердие это новая пытка? - Говоря так, Шаховской и не подозревал насколько он близок к истине. Но сейчас эти слова были сказаны единственно из чувства сострадания к товарищу. - Но почему перемены коснулись только тебя одного? - Бобрищев покраснел, - прости, Федор Петрович... - Я понимаю тебя, Николай. Действительно, почему именно я? Но я надеюсь, что ты тоже дождешься изменения своей участи. Крепись, дорогой друг. И не бросай начатого нами дела. Шаховской был растроган проводами. Об Анисье Семеновне и говорить нечего: чудесные ее рыбные пироги, в изобилии напеченные в дорогу, были просолены слезами. "В кои веки увидела впервые настоящих людей, душу омыла, как в светлом родничке, в доброту человечью поверила - да улетает ясный сокол..." В Красноярске Шаховского уже ждали. Николай Степанов договорился заранее о его жилье и купец Мясников предоставил Шаховскому две просторные комнаты в своем большом каменном доме, недавно возведенном неподалеку от городской управы, на стрелке Енисея и Качи. Федор Петрович был искренне тронут проявленной заботой. Хозяева приняли его радушно и в первый же вечер Шаховской познакомился с красноярским обществом. И здесь чувствовалась рука молодого чиновника по особым поручениям - Николая Степанова: собрались не только представители купеческой гильдии, но и молодые чиновники, объединенные не только дружбой, как отметил ссыльный, но и какой-то общей идеей. Да и купцы, приглашенные Мясниковым, деятельным, могучим, громкогласным н напористым, были под стать ему - не толстосумы и лабазники, а люди "себе на уме". - Пионеры вольного сибирского рынка, - представил их Николай, лукаво поблескивая глазами. "Пионеры" пили, как лихие гусары, и молодежь вскоре перешла в отдельную комнату. Здесь Николай Степанов, усадив Шаховского в сторонке, сообщил. - Отец просил вас, Федор Петрович, прийти завтра поутру в канцелярию, откуда он вызовет вас к себе. - Как понимать мой срочный вызов? - волнуясь спросил Шаховской. - Об этом я и хочу поговорить с вами, дорогой Федор Петрович. В ответ на неоднократные запросы отца, где он просил о переводе вас и Бобрищева- Пушкина, ссылаясь на состояние здоровья и примерное поведение, пришло разрешение о вашем переводе. - Николай вздохнул. - Бобрищев повредил себе своим прошением об уходе в монастырь. Вопрос решает Синод, хотя отец и написал, что просьба его была продиктована тяжелой душевной болезнью. Хочу предупредить вас сразу: Красноярск не указан вам постоянным местом жительства. Это исключительно инициатива отца. Пока идет переписка, а она будет идти медленно, - Николай ухмыльнулся, - живите себе спокойно здесь. Авось и останетесь. Ваше присутствие было бы полезно и для нас... Но об этом потом. Это "потом" так по-настоящему и не состоялось. Шаховской понял, что в Красноярске сложилось какое-то общество и старался не сближаться с ним, хотя было оно легальным, о чем сообщил ему сам губернатор Степанов, добавив, однако, что царь пока не утвердил его. Это общество называлось "Беседы об Енисейском крае". В свое время Шаховской создал в Москве "Общество громкого смеха". А что из этого вышло? Как-то в беседе губернатор посетовал на проволочку с выходом в Петербурге "Енисейского альманаха", первой попытки собрать литературные опыты сибиряков-красноярцев. - Государь еще будучи наследником, нимало не смущаясь, любил повторять скалозубовские слова: "Фельдфебеля б в Вольтеры вам. Он в две шеренги вас построит, а пикните - так мигом успокоит". Боюсь, что теперь этот афоризм он применит на практике... Федор Петрович, вы направляли в Петербург какие-либо заметки, записи, кроме естественнонаучных наблюдений? - "Размышления о прошлом"? - Шаховской махнул рукой. - Полагаю пустым занятием... Но вы на что-то намекаете, Александр Петрович? - Сотник Сапожников помимо меня донес в III отделение о происшедшей между вами стычке. Письмам к Фишеру заинтересовалась канцелярия Бенкендорфа. Предосудительного, судя по запросу, не найдено, но ваши занятия естественными науками, ваш интерес ко мхам и лишайникам сочли... - Занятиями умалишенного? Это я не раз слышал в Туруханске. Значит, мои записки не дошли до академика Фишера? Степанов развел руками... Губернатор тактично умолчал, оберегая душевное спокойствие Шаховского, что Бенкендорф лично его запросил: "В своем ли уме государственный преступник Шаховской?" На что он ответил двусмысленно: "Серьезно болен", добавив, что и Шаховской, и Бобрищев-Пушкин нуждаются в лечении и им необходима перемена места жительства. Так зародилась прочно укоренившаяся версия о "сумасшествии" Шаховского. Между тем, оказавшись в Красноярске, тот тотчас начал приводить в порядок свои туруханские дневники, заметки, наблюдения. Хотя Степанов и не смог ничего сказать о судьбе большого письма к Фишеру, Шаховской понял, что оно пропало безвозвратно. Да, письмо, а точней научная статья в форме дневника наблюдений, показавшаяся жандармам "записками сумасшедшего", не дошло до адресата. Но не пропало для истории. Вот что писал Шаховской: "Я предлагаю вниманию г-на Фишера первые плоды моих трудов". Предлагал он наблюдения за развитием на Севере мхов, лишайников, папоротников, плесневых грибков. Он не только наблюдал их в естественном состоянии, но и разводил дома, чтобы проследить стадию развития растений, что вызывало насмешки и нелепые до идиотизма обвинения. Шаховской писал: "Здесь ивы не достигают обычно свойственной им высоты и диаметра... Все остальные растения этого семейства превращаются здесь в кустарники". Это было научное наблюдение, легшее в основу биологии Севера. Жандармское управление задержало не только статью к Фишеру, оно задержало и письма к жене, наполненные резкой критикой местного начальства, рисующие картины бесправия и произвола, рассказывающие о тяжких душевных муках. Обеспокоенная молчанием мужа, Наталья Дмитриевна обратилась на "высочайшее имя". Ей сообщили, что Шаховской болен и вероятно - душевно. На просьбу выехать к больному последовал отказ: Николаю I много хлопот доставляли жены декабристов, находящиеся с мужьями на читинской каторге, особенно Муравьева, Волконская и Трубецкая. Не оставляя надежды, Наталья Дмитриевна написала теплое, обнадеживающее письмо, просила и его обратиться с прошением на "Высочайшее Имя" о переводе для лечения в Россию. Слезно умоляла: "не делать ничего предосудительного". Сообщала, что влиятельные друзья не оставляют заботы о нем. Шаховской жестко усмехнулся: "Государь ждет от нас изъявлений верноподданнических чувств и покаянных писем?"... Чаще всех, пользуясь положением чиновника по особым поручениям, к Шаховскому забегал Николай Степанов. Он приносил нужные книги из богатой библиотеки отца, записки по различным вопросам, заметки Степанова на полях рукописи Шаховского. Но главной целью его визитов было желание привлечь декабриста к сотрудничеству в сатирическом листке "Минусинский раскрыватель". Советы Шаховской давал, но сотрудничать, как и в обществе "Беседы об Енисейском крае", отказывался, ссылаясь на крайнюю занятость работой над записками о Туруханске. Губернатор Степанов не раз урезонивал сына. - Ты, Николай, чересчур прыток. Сатира не скоморошество. Мальчишество еще в тебе гуляет, а не здравый рассудок. И Шаховского вы не беспокойте. Он делает нужное для всех дело. Притом Федор Петрович серьезно болен. То, что он ложится в больницу - не уловка, а печальная необходимость. Бобрищев-Пушкин сдержал слово и продолжал занятия с туруханской ребятней и беседы со взрослыми. Но тоска, помимо воли, все чаще охватывала его. "Только Арина умела отвлечь его от грустных размышлений. Чутким детским сердцем понимала она настроение Бобрищева, ластилась к нему, задавала вопросы или просила объяснить, украдкой глядя на осунувшееся лицо своего беспокойного и очень ласкового постояльца: она слышала по, ночам его тяжелое бормотание и приглушенные рыдания. Письма Шаховского были целым событием, особенно первое, над которым долго сидел в одиночестве Николай Сергеевич. "Разлучаясь с тобою, я почувствовал и до сего времени ощущаю большую утрату в сердце моем. Ясные, откровенные беседы наши, соединившие нас под мирным кровом нашей хижины, навек останутся впечатлением в душе моей". Только теперь Бобрищев-Пушкин понял, какую огромную роль играл в его туруханской жизни Шаховской, какой моральной силой и поддержкой был он. Письмо вдохнуло надежды: Шаховской писал Бобрищеву, не называя имени губернатора, о хлопотах, которые должны изменить его судьбу. Над следующим письмом всплакнула Анисья Семеновна, тронутая заботой и лаской человека, по существу чужого ей. Распечатав письмо, узнав о новостях, ничего не прибавивших к его личной судьбе, Бобрищев вышел на кухню. - А вам, Анисья Семеновна, снова привет и даже особый, с сюрпризом. - Да, что ты, барин, милай? Ежели можно - почитай-ка. Бобрищев начал читать нарочито торжественно: "Кланяйся всем туруханским нашим знакомым, особенно добрым твоим хозяевам. Я очень горевал, узнав о болезни Арины, и радуюсь, что она излечилась. Бабушке Анисье Семеновне посылаю 5 рублей на память". Анисья Семеновна заплакала. - Господи, голубь дорогой, по отечеству глупую бабу величает, как барыню какую. Да окромя, как от него, да от тебя, милай. за всю жизнь такого обхождения не видывала. - Подняла заплаканное лицо к иконе, не сказала, выкрикнула давно вынашиваемое, наболевшее. - Да, что же это такое, господи? Есть ли она, правда на белом свете? Ответь мне, господи, вразуми темную голову: почему ироды да кровопийцы, воры да охальники живут припеваючи, в достатке и ходе, а добрые люди казнь лютую принимают? Родные братьев Бобрищевых-Пушкиных, быть может, и не были "ворами, иродами и кровопийцами", но они навечно запятнали себя тупой жестокостью по отношению к детям и раболепием перед троном. Они прокляли детей, они отказали им во всякой материальной помощи. Еще в период следствия, когда особенно необходимы были помощь и поддержка, Николай Бобрищев-Пушкин получил письмо от отца. Отец гневно отчитывал сына за "грехи молодости, ввергшие в компанию злонамеренных людей, авантюристов, опозоривших дворянскую честь", требовал "искренне повиниться перед молодым государем, чье сердце обливается кровью, глядя на павших, но еще не погибших", "чистосердечно признаться во всех молодых грехах, назвав имена злодеев, вскруживших пьяными речами молодые, хмельные головы"... Узник одиночной камеры воспринял письмо, как намек на тактику поведения, продиктованное однако растерянностью и непониманием их истинной, благородной цели. Перед царем он повинился, используя все верноподданнические выражения, а родителям написал искреннее письмо, где разъяснял, во имя какой благородной цели принес себя в жертву. Убеждал, что никто "не совращал" его, что это его убеждения. Второе и последнее в жизни письмо от родных ошеломило его, окончательно подорвало нравственные силы. Письмо было не только от отца - все родные подписались под ним и самое страшное - мать! Они, все, не только не принимали, не только не понимали, а открыто, злобно смеялись над их жертвой, отказывались называть "закоренелого злодея" сыном и родичем... Жертва... А нужна ли была России эта жертва? - не раз задавал он себе мучительный вопрос. Ему, вольноссыльному поселенцу, было во сто крат тяжелее, чем его брату каторжанину Павлу. В Чите, а затем и на Петровском заводе каторжане жили большим коллективом, поддерживая друг друга и материально и духовно. В спорах и дискуссиях рождалась истина, осознавалась цель, правильно оценивалась их роль в судьбе страны. А здесь, в одиночестве, один на один с сомнениями, колебаниями, отчаянием и потерей перспективы. Одна отрада и поддержка - письма и посылки Шаховского. Получив осенью, перед самым ледоставом, посылку с теплой одеждой и кожей на сапоги, Бобрищев расстрогался и загрустил окончательно: он понял, что не будет никаких изменений в его судьбе, что придется провести здесь зиму, может быть, и не одну. И снова охватило его тягостное чувство меланхолии, и снова зачастил к нему местный священник. Однако зима, вопреки тяжелым предчувствиям, прошла значительно легче, чем предыдущие: впервые через добрые руки Александры Муравьевой получил он известие о брате Павле и небольшой денежный перевод. Туруханские жители, те, что вняли советам Шаховского и занялись огородничеством, сняли неплохой урожай капусты, а особенно репы, и в знак благодарности всю зиму подкармливали его сведшей рыбой, зайчатиной и полярными куропатками. Бобрищев-Пушкин написал Шаховскому бодрое письмо, просил выслать семян: новое дело начало увлекать и его. Приехали с низовьев Енисея родители Арины, стало тесней, но и оживленней. Михей, промышленник и рыбак, мужик крепкий, был полон планов и радужных надежд: два охотничьих сезона и две путины ему фартило и теперь он намеревался сколотить небольшую артель. Был он рассказчиком превосходным, к нему чуть ли не ежедневно приходили гости, и Николай Сергеевич узнал много нового и сам включался в разговоры. Группа ребят, с которыми начал занятия Шаховской и продолжил Бобрищев-Пушкин, делала первые успехи. Казалось, душевное равновесие Николая Сергеевича уже восстанавливается, как внезапная жестокая простуда надолго уложила его в постель. Две недели боролся он со смертью, не раз прибегал священник, чтобы принять причастие, но Анисья Семеновна выходила его, отпоила отварами только ей ведомых трав. Бобрищев встал на ноги, но душевно опять надломился: недавнему блестящему офицеру было тяжко умирать в одиночестве и забвении, Весной, вслед за ледоходом прибыл новый исправник Вахрушев. Привез он с собой решение Синода. - "Государь Император по чувствам милосердия соизволил сему преступнику вступление в монастырь, буде точно имеет он к тому побуждение и желание", - торжественно провозгласил он. - Побуждения и желание... - как эхо повторил одинокий изгнанник, и надолго замолчал, собираясь с мыслями. - Может святая обитель укрепит мой дух и тело... - едва слышно прошептал он и махнул безразлично рукой. - Я согласен. - И отрешенно улыбнулся растерянной Анисье Семеновне. - Ну, чего вы? Чай не в крепость иду - на богомолье... Не знал несчастный "богомолец" главной приписки лицемерного монарха. Напрасно искал он спасения у бога. Христианин Николай I распорядился о "брате во Христе Николае Бобрищеве "по чувствам милосердия": "НО СИЕ НЕ ДОЛЖНО ИЗЪЯТЬ ЕГО ОТ НАДЗОРА ПОЛИЦИИ". Казак Сидельников, как доложил "по стафету" исправник, сдал гос. преступника Николая Бобрищева-Пушкина игумену монастыря под расписку. С рук на руки. Как по этапу. Начался еще один круг ада. [cледующая] |