

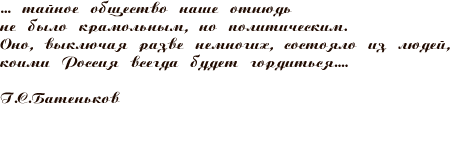




|
|

СЕКРЕТНЫЙ УЗНИКСовершая путешествие по Сибири, проездом в Красноярске остановился крупный европейский ученый, астроном, норвежец Христиан Ганстен. По случаю приезда иностранного гостя в доме губернатора был назначен большой прием. Наблюдательный ученый обратил внимание, что общественная атмосфера в Красноярске чем-то отличается от других городов. Теперь, на вечернем рауте, он понял чем. Хозяин губернии, отметил Ганстен, окружил себя способными и интересными людьми. Прогуливаясь по залу под руку с ученым, Александр Петрович представлял ему своих гостей.
Ученый восторженно затряс его руку, даже слезы выступили на глазах от волнения: "Мыслимое ли дело, здесь, в дикой глухой Сибири, встретить человека, который знаком с его трудами и одобряет их!"
- Позвольте представить, господин Ганстен, редактора журнала господина Петрова Ивана Матвеевича. Художник - мой сын, Никеля. Господин Петров также автор книги стихов. - Не сказал только губернатор, что в альманахе есть и его большой очерк "Поездка в китайский город Маймачен" и поэма - "Поэзия и музыка".
О, сколь пленительно весеннею порою,
Ганстен, пользуясь всеобщим вниманием, прикованным к поэту, изучающим взглядом окидывал присутствующих. Ему не довелось бывать в петербургских салонах в те времена, когда звучали там горячие слова прекраснейших людей России, ныне рассеянных по бескрайним просторам Сибири. Современное, подавленное, осторожное, приспособившееся к новым порядкам петербургское общество ему не понравилось.. С тем большим вниманием присматривался Ганстен к людям, окружающим любопытную фигуру енисейского губернатора. Александр Петрович, заметив, что гость глубоко задумался, взял его под руку, провел в свой рабочий кабинет. - Я вижу, господин Ганстен, - начал Степанов, - что вы желаете меня о чем-то спросить? Прошу вас.
- Никакого! - Степанов резко встал. - Это образованнейшие и культурнейшие люди, но им по Высочайшему повелению не дозволено заниматься никакой деятельностью, кроме врачебной практики и личного хозяйства. Но многие из них, пользуясь удаленностью от властей, осмелились заняться обучением крестьянских детей и пытаются даже открывать частные школы. - Александр Петрович! Я отлично понимаю вас и ваше щекотливое положение... и все же решусь попросить разрешения на неофициальную встречу с ссыльными. Не скрою, имею намерение поведать миру о тяжкой доле сибирских узников. Обещаю не называть фамилий смелых подвижников. Но сказать о полезной деятельности изгнанников, подчеркнув, что пекутся они лишь о благе отечества своего, нужно. Необходимо, господин Степанов! Александр Петрович задумался. Ганстен превосходно понимал двусмысленное положение губернатора. Наконец Степанов поднял голову. - В Енисейске находятся двое ссыльных: Шаховской и Бобрищев-Пушкин. С первым встретиться легко. Второй - в монастыре. Я вам дам письмо к настоятелю. Христиан Ганстен написал позднее о Степанове: "Человек лет сорока семи, веселый, любезный, окружен в своем кабинете различными предметами искусства и естественной истории, минералами, чучелами птиц и животных. Его рабочий кабинет включал коллекцию минералов, а в шкафах и на стенах помещались гравюры, портреты людей северных племен, виды, книги и самые редкие древности... Этот образованнейший человек с высокоразвитым вкусом, показал нам план переустройства Красноярска с широкими улицами, общественными учреждениями, садами". Обогнув по сухопутью свирепый Казачинский порог. Христиан Ганстен продолжил путь по Енисею, ошеломленный его необъятностью, особенно после слияния с Ангарой. Неподалеку от Енисейска Ганстен сделал остановку на небольшом хуторе Шаховского. Собственно остановка была счастливой случайностью. Просто Ганстен, увидев несколько строений в стороне от дороги, спросил мужика, что это такое.
Действительно, ему повезло: в городе пришлось бы сначала представиться местному начальству, испросить разрешения на встречу с ссыльным и, кто знает, не увязался ли кто-либо из чиновников за ним. А Ганстену, кроме специальных научных вопросов, хотелось иметь конфиденциальный разговор с декабристом и передать ему письмо от академика Фишера. Шаховской сидел за письмом. "Дорогая моя Натали! - писал он жене. - в Енисейске, а особенно на хуторе живется мне неплохо. Все, что может утешить меня в уединенной жизни, соединяется в месте нового моего жилища: сухая и теплая комната, добрые и бедные хозяева, хорошее расположение местных знакомых..." Заслышав стук колес во дворе, глянул в окно. Из возка вылезал незнакомый человек, в глухом сюртуке и широкополой пасторской шляпе. Издалека было видно, как пропылена его крылатка. - Господин Ганстен? - сбежал Шаховской с крыльца. Он знал уже о путешествующем по Сибири норвежском ученом и понял, что это он.
Прочитав письмо академика Фишера, в котором было много недомолвок, Шаховской поднял на гостя глаза/
- Но я же с самого начала предупредил, что совершенно не настаиваю на авторстве, - усмехнулся Шаховской. - Или я не понимаю своего положения? - Простите, но господин Фишер говорил не только об этом. Он не только опасается цензуры, но он не согласен с духом "Записок" и хотел бы видеть их... Как бы это сказать...
- В более приглаженном виде... Ганстен закивал головой.
- Конечно, куда как легко классифицировать растительный и животный мир, вести дневник метеорологических наблюдений. И Фишеру сухой гербарий дороже судьбы несчастных инородцев, - устало закончил он.
- Бога ради! - оживился ссыльный. - Да если бы у меня была копия - я с удовольствием подарил бы ее вам! Но у меня сейчас один экземпляр, частично на русском, частично на французском языках. Фишеру я послал на немецком языке. Но, - продолжал он, - мои записки еще не законченный труд, а всего лишь черновые заметки о Туруханском крае. Шаховской начал с увлечением рассказывать о времени, когда только "лук и стрелы составляли единственное оружие инородцев". Заметил с легким смешком, что питает слабость к этому времени, ибо предок его Мирен Шаховской пришел на эти земли именно тогда. "Но было бы неверно считать тунгусов, остяков, все туземное население Севера совершенно диким народом. Их одежда, украшения говорят о своеобразном их эстетическом вкусе". - Я расскажу вам о том, что, по мнению Фишера, не понравится нашему Государю Императору. Я убежден, что при добром отношении к туземному населению, при ликвидации угнетения и пренебрежительного отношения к их культуре мы скоро увидим не "диких инородцев", а таких же людей, как все. Беда в том, что два века общения с Россией не приблизили их к общечеловеческой культуре, хотя, несомненно, общение с простыми людьми уже сыграло положительную роль. - Какие же меры предлагаете вы? - уже поняв, что "Запискам" не увидеть света, спросил Ганстен. - Уменьшение налогов, самоуправление, справедливая торговля, - убежденно ответил Шаховской. - Вопрос о торговле - спорный. Губернатор Степанов и молодое сибирское купечество, например, видят развитие Сибири в развитии свободной торговли, в приложении во все сферы свободного капитала. Правда, Степанов считает, что торговлю хлебом должно взять на себя правительство. "Я считаю, что правительство целиком и полностью должно взять торговлю в свои руки и обуздать купцов-хищников. С устранением частного участия правительство распространит благосостояние и довольство на всех обитателей ". Беседа и чтение "Записок" затянулись далеко за полночь. Ганстен не чувствовал утомления, он был счастлив, найдя в глубине Сибири образованного человека, подарившего ему богатейшие сведения. Шаховской был счастлив вдвойне: в суровом одиночестве встретил умного, понимающего собеседника, ощутил, хоть на время, свою нужность и полезность. Отлично выспавшись, Ганстен вышел в маленькую столовую-кухню. Прислуга, которую Шаховской звал хозяйкой, подала самовар.
- Вчера вернулся из Енисейска, - не поднимая головы, ответил Шаховской. - Был в больнице, пытаясь повидать несчастного Бобрищева. Я не успел вам вчера рассказать о моем товарище ссыльном. Его снова заперли в келье Спасского монастыря. Я дал согласие принять его, чтобы совместно заняться моим небольшим опытным хозяйством. Отказали "по причине буйного помешательства государственного преступника". Под присмотром жандармов отвезли в сумасшедший дом, поместили в палату буйных. Здешний врач, с которым, оказывается, мы встречались еще в Петербурге на лекциях доктора Лорера, отнесся к больному внимательно, отделил его от буйных, ибо нашел не помешательство еще, а необузданные вспышки гнева. Выяснилось: когда Николай Сергеевич был на заутренне, из его кельи изъяли бумаги.
Ганстен внимательно посмотрел на бледное, до синюшности, лицо Шаховского, спросил участливо:
- Нет! - Я решил написать учебник по грамматике русского языка. Со времен Михаилы Ломоносова наш язык обогатился, а учебника нового, особенно применительно для народных школ, нет. А он необходим. Работа продвигается медленно, ибо меня гложет сомнение, что и этот труд не увидит света. Тешу надеждой себя, что эта работа, в которой отсутствует всякий намек на политику, не покажется государю предосудительной... Что касается земледелия... успехи могут быть, если смогу сколотить артель, выписать продуктивный молочный скот, совершенные земледельческие орудия. Верю, что таким путем можно поднять хозяйство Сибири. Архимандрит Ксенофонт, настоятель енисейского Спасского монастыря, принял "варяжского гостя" Ганстена, как он пошутил, вполне по-мирскому. Говорили по-французски. Сорокалетний настоятель за свою миссионерскую деятельность в Сибири был пожалован архимандритской "мантией со скрижалями" - знаком высшего духовного отличия. Русобородый красавец, слыл человеком образованным и сердобольным. Великолепный собор, монастырские строения и двор - кусочек леса на высоком холме - содержались в образцовом порядке. Услыхав о необыкновенной просьбе норвежского ученого, Ксенофонт нервно забарабанил пальцами по столу, накрытому бархатной малиновой скатертью. Он уже знал, что гость был принят в Петербурге царем, получил разрешение на подробное знакомство с Сибирью и отказать ему во встрече с "послушником Николаем" - Бобрищевым-Пушкиным - было неудобно. "Но не выкинет ли какой-нибудь номер неуравновешенный келарь? - с беспокойством думал настоятель. - Я принял туруханского буяна приветливо, не раз вел с ним душевные беседы, предоставил в распоряжение богатую монастырскую библиотеку и, жалея несчастного человека, отвечал на запросы Синода, что Бобрищев "тих и покорен". Пытаясь вызвать снисхождение и сочувствие, писал, что он "задумчив и печален". Наконец, разрешил ему свободные прогулки по городу. Но разве монастырская благость умиротворила озлобленную душу? - Вспомнилось письмо прокурору священного Синода: "Неприметно обнаружилась гнездящаяся в сердце его, Пушкина, та ужасная и мятежная мысль, которая была причиной заслуженной им ссылки в Сибирь". Архимандрит Ксенофонт вздохнул и, пытаясь отговорить Ганстена от нежелательной для себя встречи, заговорил мягко:
- Умалишенный и пишет разумно? - изобразил удивление Ганстен.
Архимандрит слегка покраснел, но постарался скрыть досаду.
Архимандрит поднял лист плотной бумаги. - Третьего дня, 25 августа, получен ответ. Обер-прокурор Святейшего Синода сообщил: "Высочайшего соизволения не последовало". Известие сие вызвало у Пушкина лютый гнев, богохульные слова и новый припадок буйства. Опасаюсь посему за исход вашей встречи. Не обессудьте, сударь. Наконец с лязгом падает тяжелый засов. И перед Ганстеном предстает мрачная картина. В углу, вместо постели, охапка почерневшей соломы, на грубо сколоченном столе оловянная кружка, накрытая ломтем хлеба, а возле нее чернильница, гусиные перья, чистые, исписанные и скомканные листы бумаги. И перед ним старик, которому нет еще и тридцати лет. - За мной? - тихим, безжизненным голосом спросил он. - Сноса в сумасшедший дом? - Щека его задергалась. Скользнув взглядом по камзолу иноземного покроя, удивленно раскрыл глаза. - Кто вы? Новый доктор? Я не встречал вас в Енисейске. Ганстен говорил по-русски уже довольно сносно, но растерянный, подавленный, неожиданно ответил по-французски, глядя с нескрываемым состраданием на Бобрищева. - Я норвежский ученый, путешественник Ганстен. Встречался с вашим другом, Шаховским. Он просил передать привет и свежине овощи. - Вы не испугались зайти в клетку к "бешеному зверю"? Благодарю вас! Извините, я не могу пригласить вас присесть. - Губы его задрожали и Бобрищев резко повернулся к стене. - Простите, - сказал он, не оборачиваясь, - мне стыдно!.. Стыдно за несчастную Россию... - Он заговорил сбивчиво, но на превосходном французском языке. - Я пытался найти покой в тишине монастыря, но обманулся. Я уже не верю в святость, в духовное искупление. Я прошусь на поселение в любое место, но меня делают сумасшедшим... Да только ли меня? - Он поднял измученные глаза. - Я погиб. Но ради всего святого, за что еще мучают Шаховского? Меня отгородили от мира монастырской стеной, его - стеной жестокого равнодушия. Его травят. Все его светлые помыслы - встречают противодействие. Если вы честный человек, скажите правду обо всех нас... Не за себя прошу, за друзей. Потрясенный норвежец поведал миру правду о медленно убиваемых декабристах. Написал и о Бобрищеве: "Он имел благородную наружность, но глаза впалые, с зеленоватыми подглазницами. Одежда его была убогая и покрыта насекомыми..." А между тем нравственные и физические пытки несчастного не только не прекращались, - они усилились с приездом окружного начальника Тарасова, сменившего пакостливого, но хотя бы внешне обходительного Бобылева. Тарасов находил садисткое удовольствие публично попирать человеческое достоинство. Чиновничья мелкота перед ним трепетала и угодничала. Ссыльные енисейские декабристы стали для него объектом бесконечных издевательств. Особое удовольствие доставляло ему, вызвав к себе Шаховского на дом, продержать в прихожей весь день, оставляя его порой даже на ночь. Нервы Федора Петровича, наконец, не выдержали. Просидев несколько часов в приемной, он ворвался в кабинет Тарасова, выкрикнул ему в лицо все, что было на душе и, хлопнув дверьми, выбежал на улицу без пальто и шапки. Прямо перед ним в закатных лучах золотились маковки Спасского монастыря, и Шаховской решил отсидеться за его стенами. Архимандрит Ксенофонт принимал его всегда любезно и даже по-своему умел утешить. Но в этот раз утешительного разговора не получилось. Нервы декабриста были слишком взвинчены, он начал возражать на речи архимандрита, затем перешел на критику догматов церкви, дойдя до отрицания православного вероисповедания: Ксенофонт посчитал все это за нервный взрыв, за "нервную горячку", посоветовал переночевать в хорошо протопленной келье. Однако доброты у святого отца хватило лишь до утра: рассуждения Шаховского чрезвычайно напоминали ему слова Бобрищева-Пушкина. А посему он решил при помощи полицейских водворить его как душевнобольного в лазарет. Произведенный обыск на квартире предоставил вещественные доказательства не только "крамольных" мыслей Шаховского, но и "богопротивных письменных суждений". Были найдены наброски к "Новой библии". Енисейскому духовному пастырю ничего не оставалось, как официально написать о "потере разума" бывшего князя Шаховского". Федор Петрович был под конвоем отвезен в красноярскую больницу... Когда умер Ф. Л. Шаховской? В конце прошлого и начале нынешнего века в печати стали появляться статьи об "узнике секретной камеры", о "секретном узнике", об "узнике каменной норы". И везде речь шла о декабристе Шаховском, умершем в "Суздальской бастилии" таинственно и скоропостижно. И только найденный в Суздальском Спаса-Ефимовском монастыре секретный "Список разного рода людей с 1801 года по 30 ноября 1836 года", составленный архимандритом монастыря Серафимом, приоткрывает завесу над разыгравшейся трагедией: "Государственный преступник Шаховской, 1829 года, марта 6 дня по Высочайшему Его Императорского Величества повелению, прислан из Сибири, при отношении Енисейского гражданского губернатора от 15 февраля 1829 года, по случаю помешательства в уме, для содержания его здесь под строгим надзором". Как же случилось, что Шаховской оказался в Суздальском монастыре, да еще под строгим надзором? Что же произошло? Енисейский губернатор Степанов, получив запрос, счел по какой-то причине необходимым придерживаться официальной версии о сумасшествии Шаховского.. Он сообщил: "...В сумасшествии написал и посвятил государю императору: правила российского языка, разные духовные послания". Но Степанов не мог удержаться, чтоб не приписать свой вывод, противоречивший официальной версии: "Некоторые из сих посланий содержат в себе прекрасные места". Не эти ли "прекрасные места" послужили причиной, что Шаховского в закрытом черном возке везли с сумасшедшей скоростью, не останавливаясь даже на ночевки? Он поступил в монастырь с обмороженными ушами, носом, пальцами левой ноги и левой руки. А ведь по описи вещей и бумаг, скрепленных подписью и печатью губернатора, в ней значились: фуфайка, рукавицы, шуба на "мерлушитом меху", волчья шуба, олений сакуй. Куда это все исчезло? Еще до поступления Шаховского в монастырь, суздальский губернатор Курута получает предписание подготовить камеру изолированную и караул к ней из трех человек, обязательно с офицером. Подле высокой каменной стены монастыря и по сей день стоит одноэтажный дом, окна которого - в двух метрах от стены. Узкая полоска неба, серая стена и на ней часовня - вот что мог видеть узник. И мертвая тишина каменной гробницы. Здесь и здоровый человек может лишиться разума. Жена Шаховского Наталья Дмитриевна узнала о прибытии мужа в Суздаль 2 апреля. Она просит свидания. Ей отказывают, объясняя, что он - невменяем. Она просит поместить к мужу слугу Леона Кондратьева. Слугу пустили, подвергнув, однако, и его аресту. Чем провинился ссыльный, больной декабрист Шаховской, за что подвергся вторичному аресту с двойным "строгим надзором", - аресту, окруженному строжайшей тайной, - мы не знаем. Был ли он, действительно, умалишенным? Свидетельство А. П. Степанова, письма и записки самого Шаховского, найденные в 1957 году историком, правнучкой декабриста Мозгалевского Марией Михайловной Богдановой, не дают основания сделать такой вывод. Объявление в сумасшествии - простой и слишком частый прием деспотии против свободомыслия. А между тем настоятель Парфений (как и енисейский Ксенофонт) хладнокровно записывает:
В отчаянии пишет по всем адресам Наталья Дмитриевна. 25 мая добивается приема у губернатора Куруты. Она умоляет о свидании.
"Государственный преступник Шаховской, находясь в сильном помешательстве ума и бысть одержим сильною болезнью, сего 24 числа 1829 года, в первом часу пополудни волею божией помер"... Но даже мертвый декабрист Шаховской страшен самодержцу Всея Руси Николаю I. В ответ на просьбу перевезти тело мужа в имение последовал ответ:
Снова оставшись совершенно один, Бобрищев-Пушкин тщетно пытается вырваться из монастыря. Не получая освобождения, он вымаливает у Ксенофонта хотя бы право на свободные прогулки. "Сердобольный" архимандрит между тем писал: "Пушкин, когда выходит за монастырь, чувствует в душе своей большее утешение, нежели пребывая внутри оного". Духовный пастырь добросовестно докладывал своему начальству виденное, словно перед ним был не живой, страдающий человек, а просто объект холодного наблюдения. "В церковь ходит очень редко, а за монастырь ежедневно раза по два и более. За всем тем частые плачи и рыдания особенно ночью обнаруживают лютую душевную скорбь его..." И так каждый месяц: "Тих", "Буен", "Покоен", "Гневен", "Переводит время за писанием бумаг", "Поет духовные песни", "Поет солдатские песни".
В 1831 году по одному из последних распоряжений губернатора Степанова, истощенный, тяжело больной Николай Сергеевич был переведен в Красноярск и помещен в городскую больницу. Чья-то, оставшаяся для нас неизвестной, добрая душа позаботилась об отличном содержании больного. Бобрищева-Пушкина поместили в отдельную, с окном в сад, светлую палату, у него появилась постоянная сиделка. Здоровье декабриста пошло на поправку, и когда, после каторги, в 1833 году в Красноярск приехал его брат Павел Сергеевич, он застал Николая почти здоровым. [cледующая] |