

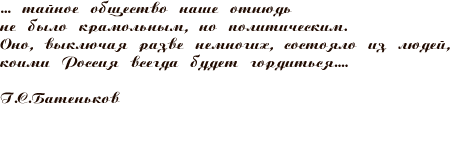




|
|

МОНАРШАЯ МИЛОСТЬМинуло для туруханских изгнанников два томительных года без Сергея Кривцова. Его письма из Минусинска, откуда он писал о жизни колонии ссыльных, уже не радовали, а еще сильней угнетали: "Сибирская Италия" - Минусинск - была для них так же недоступна, как Италия настоящая. И вот еще удар: в феврале 1831 года пришло известие, что снят и находится в жестокой опале губернатор Степанов, их единственная надежда. Друзья мечтали: пусть не Минусинск, а хотя бы Енисейск, где, считали они, все еще живут Шаховской и Бобрищев-Пушкин. Но теперь и эта маленькая мечта стала призраком. Что же произошло? Несмотря на грозные тучи над головой, губернатор Степанов продолжал вести свою независимую линию и оказывать посильную помощь декабристам. Иркутский губернатор Горлов уже был отдан под суд за "недопустимое послабление". Это был уже гром. Но Александр Петрович не желал прислушиваться к нему. Не подействовало на него и предостережение Бенкендорфа, что "Государь считает неудобным дозволять государственным преступникам посылать свои сочинения для напечатания их в журналах, ибо сие ставит их в сношения, несвойственные их положению". Степанов добился-таки выхода журнала "Енисейский альманах", о котором поговаривали, что в нем анонимно напечатаны статьи и стихи ссыльных декабристов!
Николай I собственноручно на проекте создания Общества "Беседы об Енисейском крае" начертал резолюцию "...на оное не согласен!" Одно это должно бы охладить рвение Степанова, но он, как свидетельствуют доносы прибывшего по распоряжению Бенкендорфа жандармского полковника Маслова, "не внемлет голосу рассудка и здравого смысла". Казалось бы, беспристрастная проверка деятельности губернатора должна была показать царю, как много сил, - и небезуспешно! - вложил он в развитие подчиненной ему территории. Не раз "хлебозапасные магазины" спасали от голода туземное население на Севере. "Казенные дома призрения" спасли не один десяток сиротских душ и одиноких, больных стариков. Появились школы в губернии, библиотека в Красноярске. Казалось бы - замечательно! Но именно это в глазах Николая I оказалось не заслугой, а грехом, тем более, что при библиотеке создалось, вопреки его предупреждению, общество "Литературные беседы", что уже было непростительным вольнодумством. Ко всему тому появился возмутительный листок "Минусинский раскрыватель". В январе 1831 года губернатор Степанов был снят с должности без права заниматься административной деятельностью. Тянулись и тянулись для туруханских ссыльных томительные, однообразные дни. И все же чтение, занятия в домашней школе как-то отвлекали от мрачных мыслей, давали пищу истосковавшемуся по деятельной жизни уму. Товарищи по ссылке строили планы по организации настоящей школы в Туруханске и школы специально для инородцев. Уже было два ученика тунгуса. И вот еще один удар. Нет, это нельзя было назвать ударом судьбы, это были продуманные удары Николая I, поставившего целью уничтожить ненавистных ему декабристов. Нет ничего страшней бездеятельности. А если с этим еще и убить самое надежду в возможность какой-либо деятельности, если внушить мысли, что и имя твое будет забыто во веки веков - это смерть. Сначала нравственная, а затем и физическая. Не успели друзья оправиться от известия о смещении Степанова, как к ним явился исправник Вахрушев.
И как-то незаметно для себя проникся он уважением к Аврамову и Лисовскому. И ему было как-то неловко сообщать им неприятную новость. Он торопливо развернул бумагу.
Вахрушев потоптался на месте, спрятав бумагу в папку, взялся за ручку двери и сказал неожиданно мягко:
Да, темы были оригинальны. Ну, например, что, казалось бы, предосудительного в том, что они ознакомили учеников с наказом царя Бориса Годунова воеводам, идущим в Мангазейскую землю, на Енисей! "...Царское величество их пожаловали, велели их во всем беречь, чтобы им насильства и убытку не было, а ясаков с них имать и вновь прибавлять не велел... А с бедных людей, кому ясаков платить не мочно, по сыску ясаков имать не велел, чтоб им мангазейским и енисейским и всяким людям ни в чем нужды не было..."
Понятно, что у Годунова был свой, дальний прицел, своя политика, связанная с массовым движением народа в Сибирь. Не в том суть. Важно под внешним "благопристойным" примером из царских указов XVII века показать сегодняшний контраст. Авранов давно внимательно присматривался к жизни тунгусов, ходил в их ближайшие стойбища, пусть, официально, - не далее четырнадцати километров, разрешенных ссыльным декабристам, но все равно он успел кое-что увидеть и понять. Да, в "Русской правде" Пестеля правильно ставился вопрос о "вторичном присоединенной Сибири" как равноправной части всей России. Но какое же может быть равноправие, если инородцы сознательно удерживаются на самой низшей ступени развития? На этот вопрос не дает ответа ни "Всеобщая история" Миллера, ни "История государства Российского" Карамзина. Объявление равноправия - формальность. Надо сначала поднять этот богом забытый народ на несколько ступеней вверх по лестнице цивилизации. Как это сделать? Декабрист Аврамов был сыном своего века и выход видел в подвижничестве. "Подъем окраин - условие развития страны", - говорил Пестель. - Но можно ли этого достичь при существующем строе? - А если не при существующем, то при каком тогда?.. Аврамов и Лисовский столкнулись с енисейскими остяками, котами, тунгусами. "Устав об управлении инородцев Сибири" казался им важнейшим программным документом. Разработанный Степановым и Батеньковым, он не был утвержден императором Николаем, но этот документ, в первой редакции, им дали друзья в Красноярске. А в нем были действительно, по тому времени, важные положения. Потому и был он отвергнут. Но он был у них на руках, как и официальный. И они уже начинали знакомить с ним своих первых учеников. И в самом деле - разве не важнейшими положениями были: перевод кочевых народов к оседлости, с приравниванием их в правах с русским народом? Ослабление опеки со стороны царских чиновников, создание родовых управ, выборность старшин родов, гласность судов и самостоятельность решений внутриродовых дел? Вспомнился рассказ Кузнецова-Красноярского о губернаторе Степанове, который открыто заявил хакасским старшинам:
- А не кажется ли тебе, Иван Борисович, что Устав, особливо в нашем изложении, очень уж схож с "Русской правдой" Пестеля?
Потянулись страшные в своем мертвящем однообразии дни. Дни без надежды, без просвета. Дни в жестокой нужде. Родные Аврамова выслали один раз 150 рублей, предупредив, что больше оказывать помощь не в силах. Раз-другой приходили деньги Лисовскому, да посылки со всякой мелочью. И если бы не нежные, дружеские письма добрых гениев всех декабристов Волконской и Нарышкиной, да еще и денежная помощь от них, неизвестно, как прожили бы они зиму 1832 года. Особенно тяжело перенес последнюю зиму Иван Аврамов. Уехала в Енисейск Арина вместе с родителями. Отец кое-что заработал в Дуднике и решил начать свое "дело". Анисья Семеновна ехать наотрез отказалась: она знала непрактичный характер своего сына. Любил он гульнуть, да не в том беда - кто из промышленных людей, рыбаков не гулял, вернувшись домой! Не было у ее сына Михи сквалыжной струнки, а душа была нараспашку. Отдаст или одолжит товарищам, выручит из беды, а потом мается. А потребовать долг - ни-ни! И приятно это было сердцу матери, да накладно: седина в голове, а все планы, да мечтания, а хозяйства своего нет. Другие, вон, выбились в люди. Только не лежало сердце Анисьи к тем людям: не на дрожжах поднялось хозяйство - на притеснении инородцев да приезжих бесхозных крестьян. Вот и не решилась Анисья Семеновна бросать обжитый дом да лучший в Туруханске огород - спасибо поселенцам! - на нивесть бог знает что в Енисей- ске. А если не выйдет ничего у сына - куда податься? Арину родители затребовали с собой. Этому способствовали и Аврамов, и Лисовский. Девочка, да какая там девочка - невеста уже! - стала настоящей красавицей. Красота ее была не броская, не яркая - только вглядевшись, можно было увидать волнующую глубь ее глаз, подметить особую одухотворенность чистого русского лица. Все эти годы Арина была исправной ученицей и сделала большие успехи. Родители ахнули, когда дочка их бегло начала читать книгу и даже произнесла несколько фраз по-французски. Аврамов вдруг сказал:
Не понял, не знал Иван Аврамов, что новый идеал Арины был он сам. И теперь в одиночестве он вспомнил минувшие три года. Арина выросла как-то незаметно, а они с Лисовским все еще шутили с ней, как с девочкой. Да, кажется, и она сама не замечала, как уже подошла к тому возрасту, когда парни заглядываются, выбирая невесту. Арина принимала участие в сельских играх, но парни побаивались ее острого языка. Теперь Аврамов вспомнил, как охотно ходила она с ним на охоту, рыбную ловлю, как доверчиво в холодную пору прижималась к нему. Вспомнил, как расставаясь, поцеловала Лисовского, а его обняла, шепнув с укоризной сквозь слезы: - За что вы прогнали меня? Только теперь он понял, как не хватает ему Арины. И когда уже казалось, что все кончено, что впереди "забвение и тлен" - пришло неожиданное известие. "Государственным преступникам" Николаю Лисовскому и Ивану Аврамову разрешено "заняться частной торговлей" и для исполнения "опои разъезжать по Туруханскому краю". Ну, конечно, "при неукоснительном наблюдении со стороны властей и в сопровождении должностного лица". Бог с ним, "должностным лицом"! Главное - расширились стенки смертельной клетки, главное - можно бывать в Енисейске, где живут друзья-декабристы, где можно достать новые книги, узнать новости. Чем была вызвана эта "монаршая милость" - неизвестно. Может быть, письма жен декабристов к влиятельным людям в Петербург, что само по себе являлось протестом и становилось достоянием общества, может быть, заметки норвежского ученого Ганстена, опубликованные в европейских газетах, но так или иначе, а что-то, наконец, сдвинулось в их жестокой судьбе. Известие это принес новый исправник, выпивоха, служака нахальный и ловкий. В этот раз он не ввалился в грязных сапогах, а обтерев их у порога, с непонятной почтительностью постучал к ним в комнату. Друзья напряженно смотрели на исправника, смущенно кашляющего в кулак. В его поведении было что-то необычное. Подошел и заседатель Добрышев, который мгновенно смекнул: "Раз пришло послаблением - кто знает, - не придет ли еще какое? И коли разрешено им вести торговлю, да еще разъезжать по краю - стало быть, они становятся купцами. А раз так - можно и поубавить официальность". Хитрая бестия, он понимал: при добрых взаимоотношениях можно иметь теперь от них какую-нибудь выгоду. К тому же он принес письма и денежные переводы от матери Сергея Кривцова и Марии Волконской. Письмо от княгини заставило тревожно сжаться сердца друзей: красавица Саша, совсем сию юная Александра Муравьева, обаятельнсйшая и храбрая женщина, презревшая опасность ареста и доставившая на каторгу "Послание в Сибирь" Пушкина, при смерти. Я она стала первой, открывшей скорбный счет. Это ей посвятил свои строки Некрасов. Пленительный образ отважной жены,
Аврамов и Лисовский уже знали: в ответ на прорвавшиеся в печать всего несколько статей и стихов декабристов (причем под псевдонимом!) уже последовало строжайшее распоряжение Бенкендорфа о запрете всякой, даже анонимной публикации "государственных преступников". Но сейчас, когда перед ними открывалась возможность заняться торговлей, а это значит более или менее свободные разъезды, друзья поняли: это возможность в первую очередь серьезно заняться этнографической работой и изучением неизведанного Туруханского края.
"Где сейчас Александр Петрович?" - думали они, не решаясь задавать этот вопрос в письмах. Все помыслы и стремления его и губернской канцелярии, направленные на развитие Сибири, - все перечеркнул император Николай. Но здесь они переоценили властолюбивую, но все же не всевластную фигуру "самодержца Веся Руси". Непреодолимый ход истории, пусть медленно, но неотвратимо вовлекающий Сибирь в общероссийскую экономическую орбиту, все-таки заставил царский кабинет вернуться к первому проекту опального губернатора Степанова о разрешении свободной торговли. Государственные "казенные магазины" с громоздким, дорогостоящим чиновничьим аппаратов" уже давно не оправдывали себя. Цепы на государственные товары и хлеб были непомерно высоки, вконец разоряли обнищавших от тяжких поборов и налогов инородцев.
Разрешение торговать и разъезжать для этой цели в пределах Туруханского уезда было получено 4 февраля 1832 года, а уже через два дня Николай Лисовский выехал в Енисейск. Отправиться вдвоем не хватило средств. Лисовский настаивал, чтобы ехал Аврамов, но Иван Борисович видел состояние своего друга: глубокая меланхолия, тоска, сменяющиеся отчаянно-развеселой компанией "промышленных" людей, свидетельствовали: недалек более глубокий душевный надлом, нравственные силы его на пределе. Лисовскому просто необходим был глоток живительной атмосферы. - Ты лучше меня все сделаешь в Енисейске: купишь дощаники, приобретешь необходимые товары, - уговаривал друга Аврамов. - В тебе больше хватки, бойкости, Николай. Поезжай-ка, брат, ты. А я тем временем объеду стойбища верст за сто-полтораста, разузнаю, какой товар более в ходу и тотчас отпишу тебе. К тому же я решил всерьез заняться изучением быта тунгусов. Зимняя поездка перед дальней дорогой мне будет полезна. Так что - поезжай. Николай Лисовский уехал преисполненный радужных надежд, несколько огорченный своей, как он сказал "эгоистической радостью" и, конечно, безмерно счастливый, что хоть ненадолго вырвется из опостылевшего Турухапска.
- И что из того? - воскликнул Аврамов. - Да- же если бы она и отвечала мне взаимностью, я не позволил бы себе сломать ее жизнь. Мы не пара. Ты подумай о пашей с тобой судьбе. Сегодня кроха милости, а завтра могут и ее отобрать и загнать нас, черт знает еще куда... А Арише надобно устраивать свою судьбу. И довольно об этом, езжай! Иван Аврамов решил самым серьезным образом изучить жизнь таежного народа, мнение о котором сложилось у него самое противоречивое. Минуло едва полсотни лет, как неутомимый немец Георги дал обстоятельнейшее "Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей". Он дал высокую оценку тунгусам, отметив их необыкновенную честность, бескорыстие, веселость нрава, гордость, чувство достоинства. И мореплаватель Харитон Лаптев писал: "Мужеством и человечеством, и смыслом тунгусы всех кочующих и в юртах живущих превосходят". "Неужели за одно поколение мог перемениться целый народ?" - не раз задавал себе вопрос ссыльный. Не раз за прошедшие четыре года он видел сцены дикого пьянства и разврата, видел, как тунгусы отдают русским своих дочерей, как мужчины идут в рабское услужение за кусок хлеба, за стакан водки по праздничным дням. И при всем этом нравились Аврамову их душевная открытость, доверчивость и детская беззаботность. Погоревав, поплакав громогласно над пропитой пушниной, выпросив припасов в кредит, не думая ни о процентах, ни о завтрашнем дне, с песнями разъезжаются они по тайге на своих быстроногих оленях. И как бы ни было тяжело, какой бы ни была неудачливой зима, на следующий год рассчитывались сполна, благодаря "доброго русского друга". Только поздней поймет и запишет Аврамов, как русские купцы, чиновные люди, приказчики казенных магазинов - "вахтеры", используя святой закон тунгусов - честность, подло обманывают их, доводят до разорения, а порой и голодной смерти. И поймет он, откуда и как появились отвратительные в своем бесстыдстве, бездушные к родичам и одновременно раболепствующие перед должностными лицами родовые старшины их - князцы. Перед первой дальней поездкой по стойбищам пришлось обратиться Аврамову к одному из них, чтобы договориться насчет оленей и проводника. Князца, чванливого и опухшего от пьянства, привел урядник Кандин, с которым судьба свяжет декабриста на много лет. Едва зайдя в дом, князец сбросил оленью шубу-парку, чтобы покрасоваться в мундире суворовских гренадеров, зеленом, с ярко- красными обшлагами, отворотами, желтыми галунами, "золотыми" пуговицами, а главное - кортиком с печатью на рукоятке. Кортик ввела еще императрица Екатерина, как знак власти и особых заслуг по сбору ясака. Князей уже был немало наслышан о Петербурге и поинтересовался, как живет русский белый царь и каким другом приходится ему Аврамов: первым, вторым, третьим? Урядник буркнул: - Чего разболтался, князь? Это государственный преступник: на самого государя-императора руку поднял! - Кандин даже перекрестился. - Прости, господи! За что несет кару. - Руку поднял? - Князец понял слова в прямом смысле и попятился к дверям. - На самого царя руку поднял? - Повторил он, глядя на Аврамова со священным ужасом. На слова урядника, что он отбывает наказание, князец не обратил внимание: он и сам ругань слышал, и пощечины получал, и в "амманатской" избе (своеобразная тюрьма, где находились под стражей задолжники от племен, неисправно плативших ясак. (Прим, авт.).) сидел. - Этот русский, верно, посильней и урядника, и исправника, коли царя не побоялся бить? С таким дружбу терять нельзя. А помирится с царем, обо мне вспомнит! - смекнул по-своему ловкий, изворотливый тунгус и заюлил: - Говори, чего надо? Сколько олешек надо? Сколько молодых баб в аргиш возьмешь? Все дам! Проводника самого лучшего дам. Аврамов выехал на северо-восток, к озеру Агата в сопровождении урядника Кандина. Проводник у них был замечательный, веселый, сообразительный тунгус Тапича, которому до смерти надоело быть в услужении злобного и жадного князька. Был он не просто рад, а счастлив: новый русский хозяин, узнав, что родичи Тапичи возле озера Агата и что он не видел родичей с детства, отданный в "воспитанники" князю, приказал торить тропу туда, к родным его чумам. За такое доброе дело готов был Тапича служить доброму русскому хозяину хоть всю жизнь. Шли дни, все дальше, дальше в глубь неведомой земли мчали путников неутомимые олени. И с каждым новым десятком верст, уносящих Аврамова на восток от Туруханска, словно переворачивалась страница истории, уводя в глубь веков. Тунгусские семьи, которые встречал на пути декабрист, только в редких случаях общались с русскими, а поэтому во многом сохранили свой природный характер. И чем дальше он ехал, тем все меньше и меньше замечалось "влияние русских, во многом, пагубное", как с горечью отмечал Иван Борисович. Неожиданным открытием был для него тунгусский закон, запрещающий мужчинам до тридцати лет употреблять спиртное. Старшие пили водку только в особых торжествах. "Пьянство - принесенный порок, выгодный купцам, ибо тунгус, отдав вещь, считает, что на то была его, личная, добрая воля. Тунгус жалеет только о дурном поступке, совершенном со злым умыслом. В опрометчивости своей никогда не раскаивается, а только говорит с философским спокойствием: "Спасибо, что учил". Так он говорит волне, опрокинувшей его лодку, зверю, поранившему ею", - отмечал наблюдательный этнограф. Ни разу в дальних стойбищах он не встретил и тени угодничества, заискивания, страха перед прибывшим начальством в лице туруханского урядника со стороны тунгусов. "Там, в Туруханске, они не то что боятся и раболепствуют, они встречаются с совершенно незнакомыми законами и обычаями, и поступают осторожно, не способные их нарушить, - записывал Аврамов. - И эту врожденную деликатность извратили, переиначили по-своему чиновники, сами рабы и лицемеры по духу н воспитанию!" Удивительно, что и урядник Каплиц, здесь, в дальней поездке, совершенно преобразился: был прост, приветлив, не покрикивал по обычной привычке, был терпелив и спокоен. Нет, не боязь осложнений среди чужих людей, в дальних стойбищах и затерянных в лесной пустыне чумов руководила им: Каплиц превосходно знал, что такое честь для тунгуса! Обстановка и своеобразные обычаи заставляли вести себя сообразно им, чтобы не нанести обиду радушным хозяевам, всеми силами старающимся сделать гостям приятное. А гостеприимство тунгусов доводило Аврамова до растерянности, что порой вызывало веселый смех урядника. Прощаясь с гостеприимными хозяевами, Аврамов, желая их отблагодарить, преподносил подарок, что немедленно вызывало с их стороны подарок ответный. Не желая быть в долгу, он дарил еще что-нибудь, и счастливый хозяин оказывал ему почтение новым подарком. И так могло продолжаться до бесконечности. - Ты, господин -авранов, - смеялся Каплиц, - в одном чуме все припасенные подарки раздашь. Я-то хорошо знаю тунгуса. Он хоча и дикой, нехристь, а душой добр и гостя без своего подарка не отпустит. Подарки он любит - страсть! Не потому, что жаден там, или вещица в хозяйстве нужна, нет! Приятен ему подарок гостя: стало быть гость доволен, уважение ему подарком выказывает. Это не плата за постой: ты хоть месяц-два в гостях будь - никакого расчета не бывает. Сказывают: у первых русских поселенцев такой же обычай был. Кто у кого перенял, не знаю. Значит так: ты дал подарок, какой хошь, - хучь ленту в косу. Тунгус тебе - отдарок. Тоже любой. Это уж как ты ему показался. А отказываться, господин Аврамов, ни-ни! Обида кровная. Ты это учти. Вижу, не для торговли поехал, рисуешь все, сказки пишешь, выгоду не ищешь. Но отдарки изволь принимать: не то обида и на меня падет. А я, видит бог, зла тунгусам, обиды, а тем паче лпхоимства... - Кандин посмотрел на улыбнувшегося Аврамова и вспылил: - Знаю, всех нас, царевых слуг, ненавидишь! Да только и ты знай: не все, кто мундир носит, - по одной мерке шиты. Кое-кто и "березовой каши" отведал. Говорю ведь: не обижал я тунгуса!
Нет, не все в этом далеком северном краю было так ясно, как казалось вначале Ивану Аврамову. Открывались с иной стороны и "служивые" и тунгусы, такие одинаковые и такие разные, - здесь и там - возле купеческих лабазов, кабаков в Туруханске и в своей стихии - тайге.
"Чтобы окончательно понять этот удивительный народ, нужно ехать туда, где он еще как-то сохранил свою природную естественность", - окончательно решил Аврамов.
...Все выше и выше поднималось полуденное северное солнце, и нежаркие лучи его, переламываясь в кристалликах снега, вспыхивали ослепительной радугой, обжигали глаза. Тунгусу Тапиче снеговое сияние и то причиняло неприятность, а русские уже начинали испытывать муки полярной слепоты.
Наконец Тапича решился и вытащил из поясного мешочка "снеговые" очки. Он боялся раньше показать их, знал: за подобную штуку многие сородичи его жестоко поплатились. Эти "очки" - удивительное изобретение жителей Севера, были не что иное, как два расхлестанных серебряных рубля с пропиленными щелочками и связанные ремешками. Они прекрасно защищали глаза от яркого солнца и не куржавели, как кожаные. Но лик всесильного царя бесцеремонно перечеркивался. И главная крамола была в том, что линия прорези падала точно на шею самодержцу...
Урядник Каплиц повертел их, насупился, глянув грозно на оробевшего Тапичу, но все-таки примерил.
- А славную штуку удумали чертовы туземцы! - восхищенно крякнул он. - Примерь-ка, Иван Борисовича - протянул урядник очки Аврамову.
За долгую поездку Кандин проникся уважением к бескорыстному, неунывающему, добросердечному "государственному преступнику". Отношения между ними стали если не дружескими, то самыми простыми. Обиняком, "с пятого на десятое", так, между прочим, он выспрашивал у Аврамова правду о "беспорядках 14 декабря", о которых имел официальные сведения. То, что были жестоко наказаны тысячи нижних чинов, его особенно не поразило: "Приказали солдату командиры, вот и пошел под царскую картечь. Солдату одна доля - подчиняться приказу! Но вот чего надо было людям богатым, князьям, да графам, офицерам да генералам?" - Этого Каплиц уразуметь не мог. Аврамов сказал без обиняков:
В Туруханск они вернулись в июне. Картина вздыбившегося, неукротимого богатыря Енисея, играючи вышвыривающего на высокий берег многопудовые зеленые льдины вместе с огромными каменными валунами, всегда наполняла душу Аврамова радостным восторгом.
Заседатель Добрышев попенял на долгую отлучку, но Кандин сослался на бездорожье, на нездоровье подопечного ссыльного, похвалил его примерное поведение и, чего никак не ожидал Аврамов, от его же имени сделал тому изрядное подношение, чем окончательно склонил на сторону декабриста этого чиновника. Впрочем, подношение Кандину ничего не стоило: почти все "отдарки" гостеприимных тунгусов "купец" оставил ему.
Аврамов, узнав, что Кандин не возражает и против летней поездки с ним, сумел склонить к тому и заседателя Добрышева, и теперь уверенный, что опытный в походах урядник, как нельзя лучше подготовит все снаряжение, торопился привести в порядок свои записки - результат зимнего путешествия.
Туруханский писарь, не раз оказывавший услугу Шаховскому, а особенно щедрому Сергею Кривцову, согласился теперь доставить конверт Аврамова с рисунками и записями лично в руки господина Турчанинова, председателя губернского управления. Через красноярских друзей Аврамов и Лисовский познакомились заочно с этим интересным, умным и осторожным человеком, вдумчивым естествоиспытателем, и вели с ним переписку.
Следом за льдом приплыл в Туруханск и Николай Лисовский, жизнерадостный, окрепший, словно сбросивший с плеч несколько тяжелых лет.
- В Енисейске, представь себе, Иван, чудное общество! Губернатор Степанов, ничего не скажешь, умел окружить себя интересными людьми. Многие ставленники его все еще там и искренне сожалеют о добрейшем Александре Петровиче. Но вот тебе главная и радостная весть: Бобрищев вырвался из монастырского каземата и находится в Красноярске, в больнице, в прекрасных условиях: отдельная палата окном в сад.
Повидался я с Ариной. Служит гувернанткой у купца Кытманова по-прежнему. Настоящая невеста и, как положено, вокруг нее рой кавалеров. Кое-кто пытался свататься к Арине, но пока - афронт... Помолчали. И Лисовский переменил разговор.
- Я хочу, Иван, попытаться осуществить новый проект. Огороды наши - пускай их! Бросать не будем, но и отдавать им все время - не дело. Я купил невод, сеть, еще кое-какие снасти, нашел в Енисейске несколько опытных рыбаков, они плывут следом. Если найдем и здесь людей - создадим артель. Как находишь?
- Чудесно! Но извини, друг мой, планы мои простираются на Нижнюю Тунгуску, в глубь страны. Имею намерение ближе ознакомиться с народом, коорый заинтересовал меня чрезвычайно. За короткую поездку я имел возможность убедиться, что тунгусы - талантливый, свободолюбивый народ, обладающий тонким художественным вкусом.
- Полноте, Иван! Я отказываюсь тебя понимать. Разве мало мы насмотрелись за четыре года на "художества" этого народа? Каждое лето наблюдаем мы, как собираются инородцы на ярмарку, и что же видим? Попрошаек и пьяниц! Где, в чем увидел ты талант у этого дикого народа? Даже их новая знать - князцы - те же дикари, только в камзолах, одетых на голое, грязное тело.
- Не торопись с выводами, Николай! Сегодня ты познакомишься с одним из этого "дикого" народа. Это мой новый друг, тунгус Тапича. За зиму он довольно сносно научился говорить по-русски. Для меня он не только толмач: он толкователь обычаев и законов, которые мы за четыре года так и не удосужились понять. Я буду его учить, насколько хватит моих знаний. У меня появилась даже мечта: сделать Тапичу учителем, толкователем лучших наших, российских законов...
Поездка к племенам, кочующим вдали от Туруханска, к людям, раз в год, а то и реже, встречающимися со сборщиками ясака и изредка с русскими купцами, многое изменила в моих взглядах на туземцев. Я много, очень много успел увидеть, Николай! Вот ты говоришь - пьяницы. А ведь пить они стали недавно, да и сегодня пьют далеко не все. Как мне пояснили старики, во многих племенах или родах - я еще не разобрался в их структуре - мужчинам до тридцати-сорока лет, а женщинам вообще - запрещено пить вино. Да и выпивают они по особым праздникам, на свадьбах. И на курение есть запрет. Все это именуется "одёкит", или более известное нам - "табу". Но вот тебе другая противоположность. показавшаяся мне безнравственностью. При долгом отсутствии мужа,-жена иногда живет с его младшими братьями. Не крадучись, а "на законных основаниях". Не прячась "от света", как наши "высоконравственные" дамы.
- Я пришел к такому же убеждению, Николай! И скажу больше: несчастные тунгусы давно погибли бы, если бы не гуманнейший, "дикий", "первобытный" закон нимата. "Нимат", собственно, - "я отдаю", "даю", "помогаю". У тунгусов нет ни домов презрения, ни богаделен: калек и стариков до самой смерти кормит весь род. И не подачки дает, а почетный кусок и добротную одежду, - лучшую, какая есть. Взаимопомощь для тунгусов - святая святых. Я считаю святым долгом своим - словом и примером, как призывал нас Михаил Лупим, показать тунгусам, что слова "русский" и "враг" - понятия разные, показать, что истинные сыны России видят в них друзей и братьев. Пока Лисовский сколачивал, и небезуспешно, артель, Аврамов занялся, как он посмеивался над собой, "миссионерской деятельностью". Тапичу не пришлось долго уговаривать: за доброго Ивана, за "храброго сонинга" он готов был жизнь отдать, а не то, что принять христианство. Вырядившийся в старый, но еще целый сюртук Аврамова, он ловко использовал обстановку: для того, чтобы послушать историю о его большом друге, тунгусы охотно оказывали ему помощь в хозяйственных делах. - Слушай, крепостник! - заметил Лисовский, - этот твой весельчак-бакан своей болтовней подведет тебя под монастырь. - Николай Федорович постоянно подзуживал Аврамова, наградив его кличкой "крепостник", ехидно поясняя, что поскольку он приобрел бакана-раба, то теперь он, вопреки монаршему указу "о лишении всех прав и состояний", - снова помещик, имеющий пока на обзаведение одну крепостную душу. Шутки шутками, но декабристы серьезно отнеслись к обращению тунгусов в христианство. Во-первых, новокрещенцы на три года освобождаются от ясака. Во-вторых, христианство - это письменность. Декабристам не разрешили открыть мирскую школу. Но правительство и Синод дали распоряжение об открытии приходских школ при церквах. Поэтому крещеные инородцы смогут посещать их. В-третьих, если Тапича даст пример своим сородичам, то это зачтется ссыльным... Туруханский священник отец Иннокентий, тот самый, что обвинял Шаховского в ереси, узнав, что Лисовский и Аврамов, "государственные преступники", и они, а никто иной, привели к кресту православному несколько тунгусских семей, оторопел от неожиданности. Близился срок отчета перед Иркутской епархией о миссионерской деятельности и вдруг такое приятное событие. К нему зашел Иван Авранов. - Имеем ли мы право вести с язычниками духовные беседы и склонять их к православной вере, дабы вы, отец Иннокентий, по следам нашим провели церковный обряд? Благочинный всплеснул пухлыми руками, засуетился, любезно пригласил сесть, кликнул попадью, чтоб долила в графинчик наливки и подала на стол "что бог подаст". Аврамов, запрятав усмешку, обстоятельно пояснил, куда они собираются держать путь. Отец Иннокентий дрогнул: "Несколько тыщь верст объездят эти люди и доставят списки тунгусских семей, благорасположенных к христианству! Он же впишет их в церковную книгу, пополнив число прихожан. А потом крещение! Главное - край-то какой охватят!" - Всенепременнейше отпишу в епархию, любезный сын мой, Иван Борисович, о вашем рвении, благолепном поведении... Оставив в восторженном состоянии священника, предвкушающего благодарность губернского епархиального управления (а может быть и Синода!), Аврамов, заручившись его поддержкой, направился в уездную канцелярию, к исправнику. От него требовалось нечто большее - "Письменный вид" - разрешение на поездку. Неплохие отношения позволили пригласить исправника к себе в гости. Вернувшись домой, Аврамов передал Лисовскому разговор со священником. Особенно хохотали они над тем, как на ехидный вопрос благочинного, а "не думают ли они открывать народную школу?" - Аврамов ответил: "После глубоких размышлений мы пришли к выводу, что Государство Российское начиналось с Киевской Руси, а просвещение ее не с мирских школ, а с духовных. И что у истоков их стояли святые отцы, монахи Кирилл и Мефодий". Слова эти так понравились священнику, что он твердо обещал упомянуть эту мысль в прошении открыть церковно-приходскую школу в Туруханске. Вечером после обильной закуски, в ожидании дозревающего пирога с нельмой, исправник потребовал перо и бумагу. Хмель еще не разлился по всему телу, рука вывела твердо: "Письменный вид". Глянул на декабристов, хитро усмехнулся и вывел: "Государственный преступник Иван Аврамов... - посмотрел на него искоса. - Не серчай, Иван Борисович, бумага официальная и писана должна быть по установленному артикулу. - И продолжал: "...отлучается по реке Тунгуске для промыслов зверя и торговых оборотов, по сему пристава тамошних казенных магазинов и старшины инородческих управ имеют чинить ему свободный и беспрепятственный пропуск, а в том месте, где он будет иметь пребывание в продолжении зимы, не делать ему никакого стеснения и промыслах и торговых делах". Такой же "Письменный вид" выдал он и Лисовскому - "до устья Енисея-реки, без выхода в Северный "Окиян-море". Открывалась новая страница сибирской жизни декабристов Николая Лисовского и Ивана Аврамова. [cледующая] |