

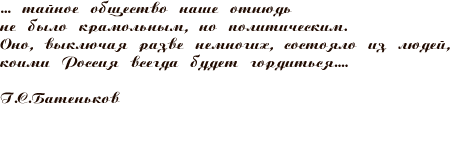




|
|

УТРАЧЕННЫЕ СТРАНИЦЫПо настоянию артельщиков, с которыми чуть ли не с первых дней начались нелады, Лисовский решил плыть сразу же до самого Енисейского залива. Ему хотелось присмотреться, записать песни и предания племени эвенков, носящего русское имя Яши Вологжанина. Откуда этот народ, обитающий в долине реки Хатанги и почему назвал себя так необычно? Кто он, этот Яша? С Волги или Вологды? Если бы народ именовался просто именем Якова, можно было бы подумать, что кто-то из давних воевод по обычаю называть своим именем холопов - дал его этому эвенкийскому роду. А то ведь так ласково, Яша...
Артельщики ворчали.
Главное, конечно, их расстраивали не эти остановки, а непривычная для них торговля с инородцами. Вызвались ехать на промысел рыбы самые бедные, кто не имел возможности даже втроем-вчетвером купить невод, но и они, на последние деньги, приобрели кое-какого товара, чтобы с выгодой обменять на пушнину у туземцев. А какая выгода, если этот "тронутый" барин все перевернул и дает свои товары чуть ли не даром? А "даром" - это значило получить одну шкурку песца за простой нож и две - за топор. И аршин ситца - тоже одна шкурка. Это были "официальные" узаконенные цены на берегах реки. А дальше, в глубине Таймыра и в заливе, как утверждали артельщики, инородцы охотно набивают медный котел белоснежной пушниной. "Чем больше котел, тем более пушнины!" Наконец порешили: Лисовский закончит торговлю по пути к устью, а артельщики начнут ее в низовье. И еще понять не могли туруханские артельщики, почему начавший торговое дело Лисовский не привез из Енисейска самый ходовой товар - спирт? Николай Федорович пытался объяснить, что это противно его убеждению, но слыша в ответ смешки, махнул рукой: бесполезно воспитанным на обмане и выросшим в нищете людям говорить о высокой справедливости. Расположившись в заброшенном русском зимовье с мрачным названием Кресты, предоставив артельщикам заниматься привычной для них путиной, Лисовский занялся осмотром окрестностей. Внимание его привлек большой деревянный крест, одиноко стоявший на яру. Бедняки такие кресты не ставят. Это оказался не могильный, а памятный крест с надписью "Оный крест ставил мангазейский человек Иван Толстоухов. Лета 7195" (дата "от сотворения мира". Первым эту запись занес в бортовой журнал "Оби-Почтальона" Федор Машин. (Прим, авт.). - Давненько, Иван Толстоухов, бывал здесь... Верно и зимовье ставил в том же 1687 году... Куда шел ты, мангазейский человек? - громко крикнул он, вспугивая суетливых крячек. Облинявшие гуси на рядом лежащих озерцах откликнулись тревожным гоготанием.
...Эх, снарядить бы шлюп, да махнуть в Америку, бежать из этой постылой земли", - мелькнула мысль. И тотчас он вспомнил о трагедии Зерентуя...
Лисовский вздохнул, отгоняя нелепую мысль и грустные воспоминания. Постепенно мысли вернулись к надписи на кресте.
Закончив путину, направив артельщиков вверх по реке, Лисовский решил поехать до Дудники, станка в несколько домиков. Он договорился с туземцами и поехал по берегу на оленях. И все больше и больше убеждался Лисовский в правоте Ивана Аврамова.
"Великие путешественники, открывшие новые земли и народы. Честь и хвала вам во веки веков! А разве мы не стоим у порога великой, еще неоткрытой страны? Разве народы, неизвестные ученому миру, не глядят на нас с этих берегов? И они не за тридевять земель, а вот, рядом! Они ждут и просят: "Поймите нас!" - И если мы поведаем миру об этих народах, о прошлой их судьбе, разве не вспомнят о нас когда-нибудь добрым словом? Или они сами не вспомнят о нас?" Аврамов направился в путь, едва схлынул весенний паводок на Тунгуске. Не паводок, а сокрушающий все на своем пути водяной вал. В дни паводка Тунгуска заливает не только "бечевик", но и среднюю террасу-узкую тропу в прибрежных скалах, по которой могли бы пройти лошади и лямщики - по-российски бурлаки, тянувшие илимки вверх по реке. Поскольку в "Высочайшем повелении" не был оговорен срок, на который могут отлучаться "государственные преступники" по делам торговли, то Аврамову удалось выговорить отлучку на целый год. Тапича, как "прилежный новокрещенец", уже не только по просьбе Аврамова, а по настоянию самого священника, ехал с напутствием наставлять инородцев-язычников на путь "истинной веры". Урядник Кандин должен был сопроводить новоиспеченного купца до Туринского станка, передать его с рук на руки тамошнему приставу и вернуться обратно. С ним туруханский исправник послал приставу туринского "казенного магазина" Седельникову подробную инструкцию. "Так как по неимению зимою по сей реке проезда Аврамов должен будет прожить там до весны, наблюдать, чтобы всякие сношения с находившимися там казаками и промышленниками основаны были на правилах, законами поставленных, дабы в особенности не было со стороны его никаких перед сим простонародьем суждений пашет Российского Правительства". Сделал исправник ссыльному и "устное внушение", как отметил он в рапорте высшему начальству.
Вот кто-то из его современников, какой-то анонимный автор из Енисейска говорит, что главный порок тунгусов - их природная лень! И еще он утверждает: "Раболепствие - их основная, врожденная черта". "Да этот автор и сам раб, и трус, коли побоялся назвать свое имя! Ведь есть замечательные записки Харитона Лаптева, Георги, Крашенинникова и совсем еще свежие - доктора Кибера, участника экспедиции Врангеля. Они подчеркивают: "Тунгусы горды без чванства, услужливы без раболепства..." Вскоре ему представилась возможность убедиться еще в одной любопытной особенности тунгусского характера. Один из нанятых им тунгусов поссорился с повстречавшимся охотником. И повод для ссоры, по мнению Аврамова, был пустячный: "Чья собака лучше".-как пояснил Тапича, - но закончилась она так же, как часто бывало в офицерской среде...
Место поединка выбирали тщательно, отмеряли расстояние, отбрасывали камни и валежины, готовя бойцовские места.
Крики одобрения с обеих сторон разнеслись по лесу. "Поймать на тетиву" - верх мастерства, и за это поймавшему дается право послать ее в неудачливого противника. Но незнакомец, улыбаясь, переломил ее о колено и бросил через левое плечо. Он отказывался от неравного боя, от мести!
С усмешкой спрашивал себя бывший офицер: "Кто сказал, что честь - привилегия дворянина?" Ему до слез было стыдно, когда тунгусы впрягались и тянули, тянули илимку, преодолевая бешеные струи. Не мог он равнодушно смотреть на этот каторжный труд и сам одевал на грудь лямку. А когда он валился от усталости, женщины разжигали костер, а мужчины начинали промысел рыбы, шли на охоту.. После всего этого начинались веселые игры. "И это "леность тела и вялость души"? - не переставал изумляться Аврамов. А его друг Тапича? С ловкостью соболя он лез на скалы, чтобы найти красивый камень, сверкающие кристаллы хрусталя и аметиста. С каждым шагом Тунгуска раскрывала перед Аврамовым свои богатства. Сердце сжималось от восторга и боли. "Все втуне, все не тронуто. Кто пробудит эти края? Неужели и здесь будут новые Акатуй, Кара, Нерчинск, Петровские заводы? Значит, за счет новых партий несчастных каторжников?" А богатства, как из рога изобилия, сыпались под ноги Аврамову. Тунгусы показали ему места, где они пьют целебную воду, мажутся "жирной грязью", долбят черный камень, из которого делают краску, показали огромные пласты "горючего камня". Нет, не напрасно Иван Аврамов проходил курс читинской "каторжной академии". Он понимал: перед ним графит, каменный уголь, минеральные источники, выходы тяжелой нефти, кварц - целый минералогический склад. И он без устали собирал образцы. Он верил: кому-то они укажут дорогу. Кандин недоумевал: "То торговлишку ведет убыточную, то песни да сказки записывает, а теперь вот, как дитя малое, камушки собирает. Или тронулся умом от тоски и мущинского неустройства, в детство впал? Кто их поймет, этих людей, - урядник вздыхал. - Жил бы спокойно, не смутьяничал - сейчас бы, наверно, к большому чину подошел. А теперь то и осталось, что песенки да камушки. Да вот и Тапичу, новокрешенца, в сумление вводит своими разговорами. Остеречь бы, да с виду ничего противузаконного не говорит. Сам слышу. А все одно - неладно". Аврамов понимал состояние своего "опекуна". Понимал и характер урядника: добрый по натуре, но как молью траченное солдатское сукно, обветшавшее, ослабевшее, потерявшее цену, так и он ослабел от бесчисленных параграфов, артикулов, а еще ранее - зуботычин. Иван Борисович успокаивал его. - Вы, господин Кандин, не волнуйтесь понапрасну. Тапича - новокрещенец, и отец Иннокентий настоятельно рекомендовал мне приобщить его еще более к святой вере, дабы мог он самостоятельно вести беседы с язычниками. А к "камушкам" вы тоже не относитесь насмешливо: это не забава, а наиважнейшее государственное дело! - И подогревал: - А ежели, господин урядник, мы найдем серебро, или того пуще - золото? Заявка на прииск чья будет? Мне, кроме вольной торговли, ничем иным заниматься не положено - стало быть заявка ваша! Да и о других полезных ископаемых вы тоже пометочки делайте. Хотите, я вам карту нарисую? Уверяю вас - придет время и она вам пригодится! Кандин кряхтел. Сердце окатывала волна сладостной теплоты: "А ведь дело говорит этот непутевый человек. Дело! А ежели и в самом деле - золото? Тогда и службу постылую побоку. Срок-то кончается..." (Каплиц, по совету Авраыова "застолбил" официально ио- гинское месторождение графита, а сын его продал золотопромышленнику М. К. Сидорову. (Прим, авт.)). Но золота и серебра не находилось, так, пустяки, а что касается торговли - одна смехота: никакого "навара".
- Дарить будешь, господин Авранов? Тунгус, он цену знает! Вот, к примеру, оставь товар в лабазе и поезжай дальше. Инородец выберет, что надо и сполна расплатится. Не по твоим ценам, а как приучен. А ты порядок ломать хочешь. И все же Аврамов решил, к великому неудовольствию Кандина, "поломать порядок". Он добросовестно подсчитал все накладные расходы, учтя стоимость перевозки и свои расходы, и определил цену. Новшество Аврамова обернулось курьезом: у него перестали брать товар. Сначала разбирали охотно, а узнав о цене, дергали руками яркий ситец и сукно, мяли в пальцах, закладывали настороженно табак за щеку, пробовали на ладони, до крови, остроту иголок, нюхали подозрительно муку и... все возвращали обратно. - Омман... Не латна-а-то так - эчэвун тыллэ, - непонятно, - вздыхали простодушные бескорыстные туземцы. Они, действительно, были приучены к грабительской цене, и новая, по существу тоже немалая, смущала ум.
На месте впадения в Тунгуску большой северной реки Кочечум, что значит Извилистая, - стояли казенный хлебозапасный магазин с амбарами и два небольших, крепко рубленных пустующих домика. Когда-то здесь был не только хлебозапасный, но и казенный магазин, привлекающий кочевников. Ассортимент государственных товаров, определенный раз и навсегда каким-то замшелым чиновником, был не только дороже частного, но самое главное - давно не отвечал интересам и потребностям туземцев. Повышать цены было, как говорят, дальше некуда, и казенная торговля оказалась не статьей дохода, а обузой и без того изрядно отощавшей казне. Гораздо легче и ощутимей был сбор налога или, как звали его на Севере по старинке - ясака. Формы ради хлебозапасные магазины оставались, правда, иной год без хлеба. И здесь государственная монополия вынуждена была стыдливо потесниться перед молодым, ловким, гибким и нахальным сибирским купечеством. Но по раз заведенному порядку, утвержденному Высочайшим указом, хлебозапасные магазины продолжали существовать. А при них, как и положено "для порядку и догляду", как повелел еще первый царь из дома Романовых, Михаил, находились два- три казака и во главе их пристав, лицо "приставленное" следить за правильностью сбора налога, "за порядком среди кочевых орд и для оказания помощи бедствующему народу в беспромысловый год". В действительности же роль пристава ограничивалась хранением "мягкой рухляди" - пушнины, собранной с царевых данников родовыми старшинами. Они по преимуществу и являлись к приставу, в надежде получить обещанную царем блестящую медаль "за верность и послушание", что должно было возвысить их среди прочих князцов. Князцами, с легкой руки Бориса Годунова, они именовались вот уже два века и гордились этим титулом, что так называются самые богатые и влиятельные люди в непонятной для них Руси. Поскольку правительство молчаливо согласилось со всевозрастающим проникновением частных предпринимателей на Север, на приставов возлагалась обязанность "следить за правильностью торговли н недопущением продажи вина". Пытаясь запретить торговлю вином инородцам, правительство руководствовалось, разумеется, не чувствами нравственности и гуманности: даже выгодная государству монопольная торговля вином на Севере оказывалась невыгодной. Это понял уже царь Алексей Михайлович и запретил продажу вина и винокурение под страхом смертной казни. Сивушный яд действовал на организм северянина, как на организм ребенка. И самое главное - надолго лишал таежного следопыта привычной неутомимости. Охотник, отравленный непривычным и неумеренным винопитием, безнадежно терял твердость руки, зоркость глаза и великий дар природы - чутье следопыта.
Пристав Сидельников, ознакомившись с бумагой туруханского исправника, был в явной растерянности. Мало того, что под его опеку поступило непонятное лицо, что само по себе несло непредвиденные Заботы, смущало главным образом то, что урядник Кандин, явно недолюбливающий его, ехидно улыбаясь, заявил, что досмотр не надобен, ибо вина для продажи нет, за что он отвечает головой. Теперь пристав лихорадочно соображал, как выйти из щекотливого положения: буквально накануне сверху спустился красноярский купец Щеголев с изрядным запасом вина. Сколько же набрал он зелья, если хватило на две тысячи верст торговли, на распродажу здесь, да еще на путь до устья? Вслушиваясь в пьяные голоса туземцев, что собрались на суглан, Сидельников смущался духом. "Перво-наперво энтот "апостол Авраам", - чистюля хренова! Чего на душе у него, коли частит Указ, как молодой пономарь? "Государственный преступник". Ишь ты! А приказано оказывать помощь, пригреть значит. Как это изволите понимать, господин исправник? И как быть с господином Щеголевым? Не простой купчишка, а как сказывал, первой гильдии. Вино-то у него есть. Мне самому немалый запасец оставил. Вот и поступи теперь по закону! Алексей Михайлович Щеголев, потомственный сибиряк, предки которого начали торговлю чуть ли не с основания Красноярска, купец оборотистый, решительный, повел дело с истинно сибирским размахом. Побывав несколько раз в низовьях Енисея и на Туруханской ярмарке, проведал о Нижней Тунгуске, о тамошних жителях, узнал об истоках реки и, решив накрепко оседлать ее, решился для начала, не доверяя никому да и конкурентов опасаясь, пройти ее всю самолично. Сначала побывал в Усть-Куте и Киренске - старинном островном городе на Лене, проехал на лошадях по Чечуйскому волоку на Тунгуску и понял: нет пока никого, кто бы осмелился основать постоянные лавки по всему течению великого притока Енисея! Снуют людишки случайные, сорвут куш, а потом маются: и завлекательное дело, да боязно забираться в края "куда Макар телят не гонял". Все прикинул Щеголев, дорогу высмотрел, амбары поставил, вроде для местной торговли, а на самом деле перевалочные пункты, и махнул в Иркутск в резиденцию генерал-губернатора с рекомендательным письмом енисейского губернатора Ковалева. Он торопился получить привилегию на право постоянной торговли по всей Нижней Тунгуске. Привилегию он получил с условием "доставлять хлеб для казенных хлебозапасных магазинов".
Узнав от растроенного Сидельникова о прибытии государственного преступника Аврамова, коему разрешена по Высочайшему утверждению частная торговля, Щеголев хмыкнул насмешливо, но с визитом отправился тотчас. Он не раз бывал в доме купца Мясникова, знал Шаховского, да и познакомился однажды с целой "компанией государственных преступников". Фамилия Аврамова что-то напоминала ему. Едва он глянул на Ивана Борисовича, как тотчас признал его.
Он подробно рассказал о своих грандиозных планах, конечно, несколько завуалировав конечную цель: единоличную монополию на всем Севере. Это понял Аврамов, но промолчал и спросил:
- Но почему же тогда вы, Алексей Михайлович, не жалеете тунгусов и торгуете водкой? - не сдержался Аврамов. Щеголев откликнулся без обиды.
Аврамов смущенно улыбнулся. - Это очень сложный вопрос. И пожалуй я вам не судья. Да и кто может подсказать какое-то магическое средство? Мы на читинской каторге часто и подолгу говорили, спорили о будущности Сибири. Все сошлись на одном: без окраин, без их расцвета - не быть России могучей. Казне принадлежат огромные площади богатейшей земли. И они пустуют. Все это: и приписные к заводам крестьяне, и насильственное переселение людей, этих "казенных" рабочих на новые земли, людей, забывших хлебопашество, казенную торговлю, все это должно быть упразднено. Да, для Сибири нужны свободная торговля и свободное заселение. - Аврамов помолчал, собираясь с мыслями, подыскивая более мягкое определение. - Вот о чем я сейчас впервые задумался, Алексей Михайлович. Да, мы, обсуждая будущность Сибири, говорили о свободной торговле, о свободном предпринимательстве. Но вот вы, например, стали монопольным хозяином на Севере. Чтобы привлечь к себе население, вы сейчас пойдете даже на какие-то временные жертвы, на непредвиденные расходы. Допустим, вы раздавите конкурентов-стяжателей, для коих главное - сегодняшняя прибыль, мошна, а не какое-то там будущее Сибири. Но вы и подобные вам, став полновластными хозяевами в торговле, не станете ли вы новым "буржуазным" феодалом? Меня пугает пример Америки: на смену завоевателям хлынули купцы, предприимчивые, деловые, энергичные люди. И что же? Началась работорговля. Молодое, только что родившееся государство разделилось на два враждебных лагеря: Север и Юг. Не случится ли то же самое? Россия - Сибирь? Щеголев потряс головой.
...Кандин уплыл вниз, в Туруханск, вместе со Щеголевым, и Аврамов мог быть уверен, что урядник не без влияния напористого, умного купца доложит о нем в самом лучшем виде. Отношения с приставом Сидельниковым также сложились благоприятные: тот понял, что "государственный преступник" менее кого-либо может быть фискалом. Сыграла роль и солидная взятка: Щеголев не поскупился и оставил ему добрый бочонок водки. Щеголев проявлял несвойственную ему щепетильность с глубоким расчетом: он всерьез рассчитывал на сотрудничество с Аврамовым. Он понимал: лучшего доверенного лица здесь, в диком отдалении, ему не найти. Пусть ему придется на какое-то время поступиться крупным барышом - однако все окупится сторицей, когда неподкупный его ревизор поприжмет хвост приказчикам. Монопольная торговля требовала и внешней хотя бы порядочности. Эту порядочность и обеспечит ему ссыльный декабрист Аврамов. Родовое собрание аборигенов - суглан началось неделю спустя после отъезда Щеголева. Сидельников нервничал: самое время бы угостить князца и старшин, заполучить от раздобревших тунгусов "почесть", иначе - дополнительный, в его мошну, ясак белкой, песцом, а может быть, и парой-другой соболишек. Неспокойно чувствовал себя и Аврамов. К нему уже подходили инородцы, интересовались робко: "Нет ли огненной воды?", но он отмалчивался, хмурясь. Щеголев, несмотря на решительное сопротивление Ивана Борисовича, оставил-таки ему водки. Он понимал справедливость циничных доводов купца: "Разве мы первыми начали? Что ты, кроме обиды сейчас принесешь тунгусам? Озлятся инородцы и все, до охотничьей снасти отдадут за водку другому купчишке. Он тебе еще спасибо скажет, всласть отсмеявшись. Да самое дрянное то, что в долг, в кабалу инородцы влезут. А коли должник - это уже не мой, не твой покупатель. Тут уж закон на стороне кредитора. Да это ты не хуже меня знаешь, господин интендант!" Наконец Аврамов решился. Видя вспыхнувшее радостью лицо пристава, предложил пригласить старейшин в гости, да остальных немного угостить. Сидольников чуть не обнял "государственного преступника"... Суглан поразил Аврамова удивительным порядком и строгим соблюдением своеобразного ритуала.
Тапича еще не мог быть толмачом и поэтому переводил пристав. Получалась довольно забавная картина: "государственный преступник" сидел среди "почтенных людей" - представителей родовой власти и в глазах инородцев представлял вместе с приставом власть "белого царя". Особенно заинтересовала Аврамова процедура суда. Оказалось, что члены суда - не постоянные лица. Они избирались на каждом суглане поднятием рук, иначе - открытым голосованием. Если истец или ответчик не обладали красноречием, или боялись, что волнение не позволит стройно изложить суть дела, - они выставляли за себя "говорящего", то есть "адвоката". Суд был, как отметил Аврамов. абсолютно беспристрастным: в ходе дела менялся состав членов суда, если разбираемые являлись соплеменниками судей. Только "адвокат" мог быть членом семьи. Дела решались неспешно, обстоятельно, с перерывами на чаепитие, до которого тунгусы были большие охотники.
Существующее "Уложение об инородцах" передало всю полноту власти главе рода, который был и князцом и старостой-шуленгой. Но еще не умерли древние традиции, еще не прижился новый порядок. и хотя восседал важно шуленга с бронзовой бляхой на груди и с кортиком, на рукоятке которого было выбито имя рода, а следовательно, его, князя, дела вершил совет старейшин. Аврамов застал еще то, что должно было быть узаконено "Уставом об управлении инородцами", то, о чем писал Постель в "Русской правде", но что вытравлялось уже самодержавием.
Наступила зима. Аврамов, распродав свои товары, с разрешения пристава ушел в тайгу. Он решил обучиться искусству охоты. И когда он с охотниками возвращался домой и валился в полузабытье на шкуры, не в силах даже выпить кружку чая, он думал: "А ведь у них вся жизнь - так!" Бывали дни, когда охотники добывали одного-двух сохатых - целую гору мяса! И Аврамов днями лежал с тунгусами у жаркого огня, курил, пил чай, спал. Он брал тетрадь и писал: "Какое заблуждение и незаслуженное оскорбление назвать изнуренного работой и нуждой тунгуса, когда он лежит, наливаясь силой для исполнения пожизненного каторжного "урока", имя которому - охотничий промысел, - ленивым!" Охота увлекала Аврамова. Она обладала своеобразной прелестью, наполняла сознанием своего могущества, но это только тогда, когда ты можешь сам решить: идти или нет. Но для тунгуса не было такого выбора. Для него не идти, значит обречь себя и семью на голодную смерть. Аврамов сознательно, из последних сил шел на ежедневный промысел, чтобы до конца испить горькую чашу таежного человека. Только так можно было понять его жизнь, его психологию. Глядя, как с первобытным страхом смотрит тунгус на обряд шаманского камлания, можно было сделать поспешный вывод о его робости. Но Аврамов видел, как тот же тунгус один выходил с пальмой (вид пики: тяжелый нож на полутораметровом древке. (Прим, авт.) ) на медведя и побеждал его! Сколько интересных фактов дала ему новая зима, проведенная среди таежных людей! А между тем в Туруханск уже летели запросы с требованием сообщить о местонахождении "государственного преступника" Ивана Аврамова. Уездный заседатель н исправник сообщают, что он находится в Усть-Турыжском "казенном магазине" под постоянным присмотром тамошнего пристава Сидельникова. Но окружной начальник Тарасов запрашивает с удивительной настойчивостью.
И туруханский заседатель отвечает с полной серьезностью:
|