

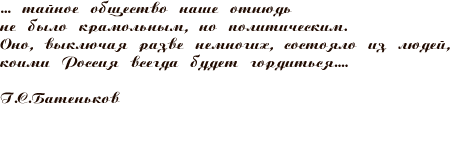




|
|

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ М. Д. ФРАНЦЕВОЙ<...> Служба в Сибири пятьдесят лет тому назад давала большие преимущества чиновникам, потому отец мой и решился, ехать туда служить. Нужно было иметь много твердости характера, чтобы в то время с семьей, маленькими детьми, молодою женой, без средств, решиться пуститься в почти неизвестный и столь отдаленный край, как Сибирь. Отец и мать мои были уроженцы города Симбирска. Там они имели свой собственный дом с садом, а в Казанской губернии Спасского уезда небольшое именьице, полученное в приданое матерью моей при замужестве. <...> Путешествия нашего в Сибирь я совсем почти не помню, смутно только помню наш приезд в Красноярск, где прожили мы несколько месяцев, потом переехали в Ачинск, где тоже оставались недолго, а потом уже отца назначили исправником в Енисейск Красноярской губернии. В Енисейске прожили мы полтора года и здесь близко сошлись с сосланными на поселение после шестилетней каторги так называемыми декабристами Михаилом Александровичем и женою его Натальей Дмитриевной Фонвизиными. Енисейск довольно большой и красивый город. В нем много церквей, два монастыря, один мужской, другой женский, много каменных домов и прекрасная набережная. <...> Общества почти никакого; круг чиновников тогда был очень неразвитый грубый. Все удовольствия заключались для них в вине и картах. Бывало, празднуют именины три дня, пьют и кутят целые ночи, уезжают домой на несколько часов, а потом опять возвращают и кутят. Порядочному человеку, попавшему в их круг, становилось невыносимо. Купечество хотя очень богатое, но замкнутое тоже в своей однообразной, грубой среде. Приехав в Енисейск, мой отец волей-неволей должен был поддерживать с ними общение и даже разделять их пирушки; но, не имея с ними ничего общего, старался удалиться от них и поэтому сошелся вскоре с поселенным там семейством декабриста Михаила Александровича Фонвизина и с сосланными туда поляками, общество которых, как людей образованных, было приятное. Из поляков многие были люди милые и талантливые; они давали нам, детям, уроки. Жизнь они вели трудовую и скромную, потому что нуждались очень в средствах к существованию. Фонвизины жили тоже уединенно, хотя в средствах не нуждались. Они занимали прекрасный каменный дом с садом; обстановка у них была очень приличная и комфортабельная. Наталья Дмитриевна Фонвизина была весьма красивая молодая женщина и большая любительница цветов. Небольшой ее садик был настоящая оранжерея, наполненная редкими растениями; она по целым дням иногда возилась в нем. <...> Моему отцу, как служащему в Енисейске исправником, приходилось делать большие разъезды по делам службы. Одна из самых замечательных поездок его была в Туруханск и далее на север. <...> Нелегко ему было в Туруханске, на краю света, вдали от семьи, бороться со злом и чувствовать другом себя одну лишь враждебную силу. <...> Господь послал ему утешение и отраду в лице встретившегося там одного тоже поселенного из декабристов, Александра Борисовича Абрамова, который как человек хороший, добрый и образованный был для отца в этой глуши настоящим, как он выражался, сокровищем и опорой. Не легче было, конечно, и Абрамову, почти заживо погребенному в дикой, суровой стране, далеко от всего родного, близкого, цивилизованного. <...> Абрамов был характера очень доброго, веселого и общительного, старался всем делать добро и помогал кому словом, а кому и делом, заступался часто за невинных и отстаивал их. Его все там очень любили, и когда он умер, заразившись сибирской язвой, то оплакивали, особенно бедные, как родного отца. В Туруханск на некоторое время был тоже сослан один из декабристов, Николай Сергеевич Бобрищев-Пушкин. Несчастного из Иркутска провели туда пешком на лыжах по тундрам. Этот страдалец не вынес, однако, такого страшного испытания, сошел с ума и впоследствии был переведен по просьбе меньшого его брата, тоже декабриста, Павла Сергеевича, в Красноярск, где тот находился, а потом они вместе переведены были на поселение в Тобольск, откуда в 1856 году возвращены на родину в Россию. <...> В Красноярске, куда был переведен из Ачинска отец, мы опять встретились со старыми знакомыми, Фонвизиными, и снова прожили года полтора вместе с ними. Там поселены были еще некоторые из декабристов: два брата Бобрищевы-Пушкины, Краснокутский, Митьков. Так как Красноярск губернский город, то и состав чиновников был более порядочен и образованный. Жизнь там была более приятная, чем в уездных городах. Декабрист Краснокутский был холостой, разбитый параличом, почему все его товарищи и знакомые собирались к нему, беседовали, играли иногда в карты. Переведенный впоследствии в Тобольск, он там умер. <...> По отъезде Фонвизиных из Красноярска в Тобольск, куда их по просьбе родных перевели, отец мой недолго оставался в Красноярске. Ему надоело жить в Сибири, и он задумал возвратиться в Россию, куда мы и отправились обратно в декабре месяце 1839 года. Тобольск лежал нам не по пути, но мы нарочно заехали туда, чтоб повидаться и проститься в последний раз с Фонвизиными. Тогда в Тобольске генерал-губернатором был князь Петр Дмитриевич Горчаков родственник и друг Фонвизиных. Михаил Александрович Фонвизин уговорил отца остаться в Тобольске и рекомендовал его князю Горчакову как честного человека; отцу предложили место советника в губернском правлении, которое он и принял. В Тобольске мы прожили, не разлучаясь с Фонвизиными, в постоянной, а потом тесной дружбе, ровно шестнадцать лет. В Тобольск же вскоре переведены были из Красноярска братья Бобрищевы-Пушкины, тоже наши хорошие знакомые, а впоследствии и дорогие друзья, а вскоре затем и еще несколько семейств из декабристов: Анненков, Александр Михайлович Муравьев, доктор Вольф, Петр Николаевич Свистунов, барон Штейнгель, Башмаков, Степан Михайлович Семенов, князь Барятинский. Недалеко от Тобольска, верст за 200, в уездном городе Ялуторовске поселились также на житье декабристы: Матвей Иванович Муравьев-Апостол, Иван Дмитриевич Якушкин, Иван Иванович Пущин, барон Тизенгаузен, Ентальцев, Басаргин. Все они нередко приезжали в Тобольск, конечно, с разрешения губернатора и, принадлежа большею частью к высшему обществу, отличались образованием и простотой обращения. <...> Фонвизины в Тобольске вели жизнь хотя и скромную, но имели уже довольно обширное знакомство благодаря своим прекрасным качествам, а также родству с генерал-губернатором князем Горчаковым, который бывал у них всегда запросто, как близкий родственник. <...> Князь Горчаков перевел свою резиденцию из Тобольске в Омск, за шестьсот верст от Тобольска, ближе к киргизской степи, куда, как он уверял, делали часто набеги киргизы, почему его корпусной квартире и следовало быть ближе к этой местности. С удалением главной квартиры, управления генерал-губернатора, войска, чинов штаба в Омск Тобольск совершенно опустел, сделался скромным губернским городом, и жизнь в нем началась довольно скучная. Собственно для меня это была лучшая пора, потому что в этот период мы больше сблизились с Фонвизиными. На меня как на девочку с пылким воображением и восприимчивой натурой Наталья Дмитриевна имела громадное нравственное влияние. Она была замечательно умна, образованна, необыкновенно красноречива и в высшей степени духовно-религиозно развита. В ней так много было увлекательного, особенно когда она говорила, что перед ней невольно преклонялись все кто только слушал ее. Она много читала, переводила, память у нее была громадная; она помнила даже все сказки, которые рассказывала ей в детстве ее няня, и так умела хорошо, живо картинно представить все, что видела и слышала, что самый простой рассказ, переданный ею, увлекал каждого из слушателей. Характера она была чрезвычайно твердого, решительного, энергичного, но вместе с тем необычайно веселого и проста в обращении, так что в ее присутствии никто не чувствовал стеснения. <...> Наталья Дмитриевна до конца жизни сохранила свой твердый решительный характер. Она знала, что муж ее принадлежал к тайному обществу, но не предполагала, однако, чтоб ему грозила скорая опасность. Когда же после 14-го декабря к ним в деревню Крюково, имение, принадлежащее Михаилу Александровичу по Петербургскому тракту, где они проводили зиму, явился брат Михаила Александровича в сопровождении других, незнакомых ей, лиц, то она поняла тотчас же, что приезд незнакомых людей относится к чему-то необыкновенному. От нее старались скрыть настоящую причину и сказали, что ее мужу необходимо нужно ехать в Москву по делам, почему они и приехали за ним по поручению товарищей его. Беспокойство, однако, запало в ее сердце, особенно когда стали торопить скорейшим отъездом; она обратилась к ним с просьбой не обманывать ее: "Верно, везете его в Петербург?" - приставала она к ним с вопросом. Они старались уверить ее в противном. Муж тоже, чтобы не огорчат ее вдруг, старался поддержать обман, простился с нею наскоро сжав судорожно ее в своих объятиях, благословил двухлетнего сына, сел в сани с незнакомцами, и они поскакали из деревни. Наталья Дмитриевна выбежала за ними за ворота и, не отрывая глаз, смотрела за уезжавшими, когда же увидела, что тройка, уносящая ее мужа, повернула не на московский, а на петербургский [тракт], то, поняв все, упала на снег, и люди без чувств унесли ее в дом. Оправившись от первого удара, она сделал нужные распоряжения и на другой же день, взяв с собой ребенка и людей, отправилась прямо в Петербург, где узнала о бывшем 14 декабря бунте на площади и о том, что муж ее арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Она не упала духом, разузнала о других арестованных лица познакомилась с их женами и подговорила их как-нибудь проникнуть к заключенным мужьям. Однажды она сказала жене товарища мужа, Ивана Дмитриевича Якушкина, с которой была дружна "Наймем лодку и поедем кататься по Неве мимо крепости!" И две молодые предприимчивые женщины, наняв ялик, долго плавали около крепости, наконец, заметили каких-то гуляющих арестантов, но побоялись приблизиться к ним, не зная наверно, кто они, и опасаясь быть замеченными. Разузнав потом хорошенько у служителей крепости, за деньги, конечно, как помещены их узники, они узнали также, что их водят в известный час каждый день гулять по берегу Невы вдоль крепости. Тогда они смелее стали продолжать ежедневно свои прогулки на ялике по Неве, и когда завидели вдали опять гуляющих арестантов, то подъехали ближе настолько, чтоб они могли их заметить, стали махать им платками и делать разные знаки, по которым заключенные и узнавали своих жен. Потом достигли уже того, что стали передавать им записочки и получать ответы на разных грязных бумажках или табачных бандеролях, которые сохранились у меня до сих пор. Она, как только ей стало известно решение участи мужа, что ссылается в Сибирь на каторгу, решилась последовать за ним в изгнание, но не могла ранее года исполнить свое желание. Когда муж ее уже сидел в крепости, у нее родился второй сын, после которого она долго не могла оправиться. Мужа же в продолжение этого времени отправили в Сибирь, и она не имела никакого известия о нем, так что не знала, жив ли он там или нет. Родители ее восстали против ее решения ехать за мужем на каторгу. Она была у них единственная дочь, и разлука с ней почти навек казалась для них невозможной. Но твердая решимость дочери исполнить священную обязанность относительно изгнанника-мужа заставила их покориться своей скорбной участи и расстаться с любимой дочерью. <...> Устроив своих двух малолетних сыновей у дяди, Ивана Александровича Фонвизина, родного брата Михаила Александровича, человека высоких нравственных правил, честного, доброго, благочестивого и горячо любившего брата, Наталья Дмитриевна поехала одна с девушкою и с фельдъегерем на козлах, оторванная от родной семьи, родины, друзей, в неведомую даль, с будущим, покрытым таинственным мраком. <...> Декабристы в тех местностях Сибири, где они жили, приобретали необыкновенную любовь народа. Они имели громадное нравственное влияние на сибиряков: их прямота, всегдашняя со всеми учтивость, простота в обращении и вместе с тем возвышенность чувств ставили их выше всех, а между тем они были равно доступны для каждого, обращающегося к ним за советом ли, с болезнью ли, или со скорбью сердечной. Все находили в них живое участие, отклик сердечный к своим нуждам. <...> В Петровске жены декабристов приобрели свои деревянные дома и украсили их со вкусом, сколько могли. Их мужьям было разрешено приходить на свидание с женами в продолжение нескольких часов, тогда как прежде они могли видеться только в тюрьме, где иногда испытывали большие неприятности. Особенное счастье для заключенных, что назначенный главным над ними тюремщиком, или комендантом, генерал Лопарский был человек образованный, добрый и умный, так что они все уважали и любили его. У них у всех почти сохранились его портреты. По окончании срока каторги многие из декабристов были посланы на поселение в сибирские города. Фонвизины попали в Енисейск Красноярской губернии, куда, как я уже сказала раньше, вскоре мы и приехали и познакомились там с ними. Здоровье Натальи Дмитриевны не выдержало, однако, тяжелых испытаний и расстроилось серьезно. Особенно много болела и страдала она в Чите и Петровске; местность, окруженная горами, дурно повлияла на ее нервы, и она получила там сильную нервную болезнь, от которой страдала в продолжение десяти лет. Она была очень радушная, гостеприимная хозяйка и любила так же, как и муж ее, угощать; впрочем, он всегда сам занимался столом. В Тобольске, при обилии рыбы и разнородной дичи, стол у них был всегда прекрасный. Сухие же продукты, как то: миндаль, чернослив, грецкие и другие орехи, кофе, горчица, конфеты, масло прованское и т. п., присылались им пудами прямо из Москвы, так что недостатка ни в чем они не имели. Сначала они нанимали квартиры, а потом купили собственный деревянный дом с садом. Так как Наталья Дмитриевна была большая любительница цветов, то разбила и украсила свой сад превосходными цветами, выписывая семена из Риги, от известного в то время садовода Варгина, завела оранжерею и теплицу. <...> Нередко собирались у них по вечерам друзья, беседовали, спорили. Фонвизины получали разные журналы, русские и иностранные, следили за политикой и вообще за всем, что делалось в Европе. Все их интересовало. Умные, увлекательные их беседы были весьма поучительны. В Сибири у Фонвизиных родилось двое детей, которые там же и умерли в малолетстве. Тогда они начали воспитывать чужих детей. Подружившись очень с тобольским протоиереем Степаном Яковлевичем Знаменским, очень почтенным и почти святой жизни человеком, обремененным большою семьей, они взяли у него на воспитание одного из сыновей, Николая, который и жил у них, продолжая учение свое в семинарии. По окончании же курса они доставили ему возможность пройти в Казанской духовной академии курс высшего образования. Он и до сих пор жив и служит в Тобольске по гражданской части. Затем они воспитывали еще двух девочек, которых потом привезли с собою в Россию и выдали замуж. <...> В Тобольске из поселенных там декабристов составился довольно обширный кружок. У большей части из них были свои дома. У Александра Михайловича Муравьева был прекрасный дом с большим тенистым садом; он еще в бытность свою близ Иркутска в селе Урике женился на одной гувернантке немке, Жозефине Адамовне Брокель, очень милой и образованной, которую любил страстно. У них было четверо детей, три дочери и сын, любимец отца, мальчик замечательно способный и милый, они воспитывали своих детей очень тщательно и выписывали из России гувернанток. Муравьев был богаче других потому, что мать его, Екатерина Федоровна Муравьева, жившая постоянно в Москве, перевела всю следуемую ему часть имения на деньги, что составляло около 300 тысяч серебром, и посылала ему с них проценты, на которые он мог жить в Тобольске весьма хорошо. У них часто устраивались танцевальные вечера, сначала детские, а после, когда дети подросли, то и большие балы и маскарады, на которые приглашалось все тобольское общество начиная с губернатора и других служащих лиц. У них всегда много веселились, они были вообще очень радушные и любезные хозяева, умели своим вниманием доставить каждому большое удовольствие. <...> С Муравьевыми жил декабрист доктор Фердинанд Богданович Вольф. Они были очень дружны. Так как последний был холост и одинок, то Муравьевы и пригласили его жить с ними. Фердинанд Богданович был искусный доктор, тщательно следил за медициной, к нему все питали большое доверие и в случае особенно серьезной болезни всегда обращались за советом. Он замечателен был своим бескорыстием, никогда ни с кого не брал денег и вообще не любил лечить. Когда он был в Иркутске, то там прославился, вылечив одного богатого золотоискателя, от которого отказались уже все тамошние знаменитости. По выздоровлении своем золотоискатель, признательный доктору Вольфу за спасение, как он говорил, своей жизни, но вместе с тем зная, что тот никогда ничего не берет за визит, послал ему в пакете пять тысяч ассигнациями с запиской, в которой написал ему, что если он не возьмет этих денег из дружбы, то он при нем же бросит их в огонь. Денег все-таки Фердинанд Богданович не взял. Семейство Муравьевых было очень дружно с семействами декабристов Ивана Александровича Анненкова и Петра Николаевича Свистунова (они все трое служили в Кавалергардском полку).<...> У П. Н. Свистунова, как любителя и хорошего музыканта, были назначены по понедельникам музыкальные вечера, на которых устраивались квартеты; некоторые молодые люди играли на скрипках, молодые же барышни на фортепиано, и все заезжие артисты находили у него всегда радушный прием и сочувствие к их таланту. Он принимал в них самое деятельное участие, хлопотал и помогал им в устройстве концертов, раздаче билетов и, будучи весьма уважаем и любим в Тобольске, был очень полезен для бедных артистов, которые в далекой стране не знали, как и благодарить его за помощь. П. Н. Свистунов был отлично образованный и замечательно умный человек; у него в характере было много веселого и что называется по-французски caustique (едкости, остроты), что делало его необыкновенно приятным в обществе. Несмотря на то, что живостью и игривостью ума он много походил на француза, ум у него был очень серьезный; непоколебимая честность, постоянство в дружбе привлекали к нему много друзей, а всегдашнее расположение к людям при утонченном воспитании и учтивости большого света располагало к нему всех, кто только имел с ним какое-либо общение. По назначении губернатором Тихона Федотовича Прокофьева последний с большим рвением заботился об учреждении женской школы, и после многих трудов ему удалось наконец открыть Мариинскую школу в Тобольске. Он пригласил П. Н. Свистунова содействовать ему в устройстве ее и наблюдать за ходом учения и за расходами по заведению. После Прокофьева поступил губернатором Виктор Антонович Арцимович, принявший самое живое участие в этом заведении, которое благодаря его заботам и при содействии того же П. Н. сделалось образцовым. По возвращении из Сибири П. Н. вступил во владение переданной ему братом части родового имения в Калужской губернии и был выбран дворянством Лихвинского уезда в члены комитета по освобождению крестьян от крепостного права. Тут посчастливилось ему приложить свою трудовую лепту к делу, составлявшему предмет его сердечных желаний с самой молодости. Затем он был назначен от правительства членом присутствия по крестьянским делам, которым и состоял в продолжение двух лет под председательством переведенного из Тобольска в Калугу губернатора В. А. Арцимовича. По назначении последнего сенатором П. Н. вышел в отставку и поселился на житье в Москве. Вежливость во всех так называемых декабристах была как бы врожденным качеством. Высоко уважая в людях человеческое достоинство, они были очень ласковы со всеми низшими и даже с личностями, находившимися у них в услужении, которым никогда не позволяли говорить себе "ты". Подобное отношение к слугам привязывало их к ним, и некоторые доказывали своей верностью на деле всю признательность своих сердец, не говоря уже о тех преданных слугах, которые разделяли с самого начала злополучную участь своих господ, как, например, няня Фонвизиных, Матрена Петровна, о которой я уже говорила, все время изгнания добровольно прожила с ними в Сибири и вернулась в Россию тогда только, когда Фонвизины были сами возвращены. Она была замечательна по своей преданности и честности; другая подобная же личность, Анисья Петровна, жила у Нарышкиных; она тоже с начала до конца изгнания не покидала своих господ. Такие личности под конец были уже не слугами, а верными друзьями, с которыми делилось и горе, и радость. У Свистуновых долго не было детей. Когда же родилась дочь Магдалина, то они любили и баловали ее донельзя, особенно отец, который сам воспитывал и учил ее. Вскоре после нее родился сын Иван и дочь Екатерина в Тобольске, потом в Калуге еще младшая дочь Варвара. В Тобольске Свистуновы прожили тоже лет 15 и со всеми были постоянно в хороших отношениях. Губернаторша Энгельке очень любила П. Н. Он часто участвовал на ее музыкальных вечерах. Вообще губернаторы и другие чиновники относились ко всем декабристам с большим уважением, всегда первые делали визиты и гордились их расположением к себе. Со Свистуновыми жил один из товарищей, декабрист Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин, у него был брат Николай Сергеевич, умственно расстроенный, с которым сначала они жили вместе, но раздражительность последнего наконец дошла до такой степени, что не было никакой возможности с ним жить. <...> Свистунов, будучи дружен с П. Сер., предложил ему комнату у себя в доме. Николай же Сергеевич остался в отдельной квартире. Личность Павла Сергеевича Бобрищева-Пушкина была замечательна. <...>
Отец мой очень любил и уважал П. С. и удивлялся его постоянному самоотречению [...] Когда в Тобольске в 1848 году была холера, то П. С., забывая себя, помогал своею гомеопатиею всем и каждому. Только, бывало, и видишь, как в продолжение дня разъезжал Конек-Горбунок с одного конца города на другой со своим неутомимым седоком. Потребность в помощи была так велика, что даже Фонвизины и Свистуновы, по наставлению П. С., лечили в отсутствие его приходящих к нему больных в эту тяжелую годину. <...> Молодые годы моей жизни, проведенные в Сибири, останутся навсегда неизгладимыми в моей памяти; они полны воспоминаниями самыми светлыми от сближения с детства моего с людьми не только даровитыми и развитыми умственно, но и глубоко понимающими высокую цель жизни человека на земле. <...> После многолетнего страдания декабристов, наконец, некоторым их них начало улыбаться счастье: ко многим, получив разрешение, стали приезжать на свидание из России сыновья. Фонвизиным тоже предстояла эта радость: их сыновья также принялись хлопотать о разрешении приехать в Сибирь, но!.. пути божии неисповедимы! Несчастные родители были лишены этого счастья на земле. Старший их сын вдруг заболел, отправился в Одессу лечиться и скончался там на руках одних своих друзей на 26-м году жизни; это было в 1850 году. Младший же брат его, Мих[аил] Мих[айлович], юноша не особенно крепкого здоровья, так был дружен со своим старшим братом, что после его потери через 8 месяцев приехал в Одессу на могилу брата и испустил дух в той же семье, где умер брат его, и лег с ним рядом. Впоследствии их мать, возвратясь из Сибири, посетила могилу своих сыновей в Одессе, поставила над нею великолепный огромного размера крест с художественно отлитой из бронзы во весь рост страдальческой фигурой Спасителя. Трудно описать скорбь несчастных родителей, когда до них дошли в Сибирь эти печальные вести. Каждый отец, каждая мать поймут это сердцем лучше всякого описания. Потеря первенца хотя и отозвалась тяжело в сердце родителей, но все же оставалась надежда увидеть другого сына. Но никогда не изгладится из памяти моей почтенная фигура старика отца, пораженного новым тяжким горем, в минуту получения известия о смерти второго и последнего сына; он стоял на коленях, обратив взор, полный слез, к лику Спасителя, и мог только прошептать: "Да будет воля твоя святая, господи! верно так угодно богу!" Наталья же Дмитриевна как ни была поражена вторичным страшным горем, но глубокая ее преданность и непоколебимая вера не только не поколебались ни на минуту, но заставили ее с той же любовью, покорно и без ропота принять новое тяжелое испытание, ниспосланное на них господом. <...> В России, на милой родине, у них оставалось теперь одно только дорогое сердцу существо - это горячо и нежно любимый брат Фонвизина, Иван Александрович, который и стал просить разрешения приехать в Сибирь на свидание с несчастным братом. Получив позволение, он тотчас же пустился в путь и приехал в Тобольск летом 1852 года. Радость свидания братьев после такой многолетней разлуки была беспредельна! Иван Александрович прожил в Тобольске 6 недель и спешил назад в Россию, чтобы хлопотать о возвращении из Сибири брата-изгнанника. Вся зима прошла в хлопотах, и наконец через содействие князя Алексея Федоровича Орлова он достиг желаемого. В феврале 1853 года императором Николаем было подписано разрешение о возвращении из ссылки Михаила Александровича Фонвизина. Это был единственный декабрист, возвращенный прямо на родину Николаем Павловичем. Некоторые из декабристов, как то: Мих[аил] Миха[йлович] Нарышкин, Мих[аил] Александрович Назимов, Лорер, барон Розен, Лихарев, Фохт, фон дер Бригген, поселенные в Кургане, по случаю посещения Сибири во время путешествия в 1836 году цесаревичем Александром Николаевичем были переведены на Кавказ солдатами. В начале марта, именно 3-го числа, радостная весть о возвращении Фонвизиных достигла наконец и дальних стран Сибири; неожиданно мне пришлось быть вестницею их свободы. Письмо от брата их, Ивана Александровича, с известием о свободе было переслано через моего отца. Когда Фонвизины из привезенного мною им письма узнали о дарованном им праве возвратиться на родину, то слезы радости полились из глаз страдальцев и всех окружающих; упав на колени, они благодарили всевышнего за дарованную им, давно желанную свободу. Весь дом, вся дворня собрались выразить полное сочувствие их радости и также проливали слезы умиления, глядя на них. <...> При всем желании поскорее отправиться в путь время года не позволило им даже и думать ранее мая месяца пуститься в такое дальнее путешествие, так что волей-неволей они должны были отложить свой отъезд из Сибири, чему, конечно, я радовалась; каждая лишняя минута их присутствия для меня была дорога; но слабое здоровье Ив[ана] Алек[сандровича] от сильных потрясений душевных и трудов по делу о возвращении брата и от частых разъездов в Петербург не выдержало, и он слег в постель, так что вскоре за радостною вестью стали приходить тревожные известия о расстройстве здоровья Ивана Александровича. Первое время он еще писал брату, по обыкновению, каждую неделю; потом вдруг больше недели не имели совсем писем от него, что заставило страшно встревожиться Михаила Александровича; как теперь помню, рано утром 9 апреля, сильно расстроенный, он приехал к нам и просил послать на почту, нет ли на имя моего отца письма от брата. Через несколько минут (мы жили рядом с почтой) письмо было уже в руках Михаила Александровича. Я еще не выходила из своей комнаты, как отец, войдя ко мне, говорит:
Я кое-как оделась, вышла поспешно в гостиную и невольно остановилась в ужасе, увидев почтенного старика с дрожащим в руках письмом. Слезы лились из его глаз, я была уверена, что он читает известие о смерти брата; но, окончив письмо, он перекрестился со словами: - Слава богу, брат жив! Надежда на здоровье его хотя и осветила Мих[аила] Алек[сандровича] , но как будто под тяжестью грустного предчувствия не успокоила совершенно. Он тут же решился ехать в Россию один, несмотря ни на какую дорогу, и прямо от нас поехал к губернатору просить дозволения на выезд. Ровно через 5 дней, 15 апреля 1853 года, в великий четверг на страстной неделе, не обращая внимания на страшную распутицу, этот 70-летний старик отправился один, в сопровождении жандарма, в простой телеге на перекладных в далекий путь на родину. Любовь к брату заставила его пренебречь всеми опасностями, могущими встретиться на пути в такое время года. Каким-то тяжелым и грустным предчувствием отозвался у всех на сердце такой скорый, решительный отъезд М. А. из Тобольска. Я прощалась с ним точно как перед смертью, не думая когда-либо увидеть его больше на земле. Мгновенно по городу разнеслась весть о поспешном отъезде М. А., и, несмотря на страстную неделю, все спешили приезжать прощаться со столь глубокоуважаемым всеми человеком; богатый и бедный равно старались заявить свое сочувствие к отъезжающему из края, где в продолжение стольких лет жизни никто никогда не слыхал от него ничего другого, кроме доброго слова и всегда радушного приема и привета. Наконец, настал назначенный день отъезда. Все товарищи, друзья и люди, искренно любившие М. А., собрались провожать его до берега Иртыша в 3 верстах от Тобольска, до места, называемого Под-Чуваши. В доме был отслужен напутственный молебен; началось тяжелое прощание с товарищами многолетнего изгнания, потом с людьми и со всеми знакомыми. Длинный кортеж провожавших двинулся при ярко блестевшем весеннем солнышке; день 15 апреля был чудесный, теплый, ясный. Подъехав к Иртышу, с замиранием сердца следили все, как телега с седоками выехала на лед и покрылась до половины колес водою, образовавшеюся от таявшего снега. Переехать Иртыш было небезопасно; чем дальше удалялся М. А. от холодных стран Сибири, тем опаснее становилось путешествие. В одном месте, как он сам потом рассказывал, ему опять пришлось переезжать Иртыш. Никто не брался его перевезти, так как лед был уже тонок; тогда М. А. решил перейти реку пешком, и только дошел до середины, как лед тронулся, и старик с опасностью для жизни, перескакивая с льдины на льдину, добрался наконец благополучно до противоположного берега. Так доехал он до Перми, не раз подвергаясь опасности при переправах через реки; в Перми он сел уже на пароход, где хотя и отдыхал физически, но зато душевное беспокойство и предчувствие о потере брата томило его жестоко. На пароходе он доехал спокойно до Нижнего Новгорода. Ему очень нравилось путешествие по Волге и очень интересовало устройство пароходного сообщения, которое для него было новостью. Встречи с разнородными личностями несколько развлекали его от постоянно томящей грусти, не покидавшей его во все время дороги. Пробыв в Нижнем Новгороде не более суток, он успел осмотреть кремль, соборы, подземную церковь, ярмарку и поехал затем на почтовых по шоссе до Москвы. По приезде в Москву неизвестно для чего его прямо привезли к дому генерал-губернатора графа Закревского, где он получил разрешение отправиться и дом брата Ивана Александровича на Малую Дмитровку. Подъезжая к дому, сердце у него замерло, как он писал сам в Тобольск, от какого-то страшного предчувствия, что брата уже нет в живых. У подъезда его встретил дворецкий, у которого М. А. дрожащим от волнения голосом спросил: "Что брат, здоров?" Дворецкий, увидя его столь расстроенным, сам так растерялся, что не решился сказать ему вдруг ужасную правду, что брата нет уже на свете, и пробормотал сквозь зубы: "Слава богу?" Михаил Александрович, перекрестясь, воскликнул: "Благодарение богу!" и поспешно вошел в богато убранный дом брата; но глубокий траур вышедшей ему навстречу родственницы, жившей всегда при Иване Александровиче, Екатерины Федоровны Пущиной, заставил понять несчастного старика ужасную истину. Они, зарыдав, обнялись молча. <...> Как только сделалось известно, что он приехал в Москву, масса экипажей потянулась к дому покойного брата на Малую Дмитровку, где остановился Михаил Александрович. Толпа родных и старых друзей окружала его в продолжение целого дня и не давала ему сосредоточиться на своем горе. Но всего отраднее для Михаила Александровича было свидание со стариком Алексеем Петровичем Ермоловым, у которого в молодости он служил адъютантом. Ермолов, как только узнал о возвращении Фонвизиных из Сибири, велел тотчас же дать ему знать об его приезде в Москву, и как только получил это известие, то явился сам и весь день не оставлял Михаила Александровича. Он часто потом с любовью вспоминал об участии, оказанном ему в то время Ермоловым. По воле императора Николая Михаил Александрович должен был жить в своем имении, селе Марьино (Московской губернии Бронницкого уезда, в 50 верстах от Москвы), с запрещением въезда в столицу. На другой день по приезде он отправился вместе с Екатериною Федоровной Пущиной туда на жительство. Проезжая Бронницы, он посетил свежую могилу дорогого и столь нежно любимого брата. Это посещение было для него невыразимо тяжело; во время служения панихиды на могиле слезы лились из глаз злополучного старика. (Иван Александрович похоронен в родовом склепе при Бронницком соборном храме, где также было оставлено место и для Михаила Александровича.) Тяжело было ему, одинокому, убитому горем, поселиться в родовом имении, где жили его отцы и деды, где все когда-то кипело жизнью, общею с ним, тогда как теперь он был одинок и в среде общества, совершенно чуждого ему по взглядам и понятиям. Все, что было дорого ему на родине, лежало в свежих могилах, а все дорогое и близкое его сердцу: жена, приемные дети, товарищи, друзья-все были далеко, в стране изгнания, куда невольно летело его сердце. Он сам впоследствии передавал мне, какую сердечную муку пришлось ему вынести первое время по своем возвращении в Россию. <...> Положение Натальи Дмитриевны было тоже ужасное по получении известия о смерти Ивана Александровича. <...> Зная любящее сердце мужа, она сознавала, как тяжело ему теперь быть на родине без тех, кого он привык любить с детства, почему и решилась просить отца моего отпустить меня с нею хоть на год в Россию для утешения убитого горем Михаила Александровича. Как ни тяжело было отцу расставаться со мной, потому что он меня сильно любил, но его благородное сердце не знало отказа в жертве, когда дело касалось пользы другого. Отец тоже знал хорошо, что Михаил Александрович с моего детства любил меня так горячо, как родную дочь, и ничем больше не мог доказать ему свою дружбу в минуту такого тяжелого горя, как пожертвовать разлукой со мной. 4 мая 1853 года, как только дороги стали возможными для проезда, мы двинулись в далекий путь, тоже в сопровождении жандарма, двух детей-приемышей, меня, старой няни, разделявшей с Фонвизиными их изгнанническую жизнь в Сибири, и прислуги. Мы выехали из Тобольска утром в трех тарантасах, нагруженных доверху (сибирские тарантасы необыкновенно удобны и приятны для путешествия), разместившись таким образом: Наталья Дмитриевна со мной и жандармом на козлах в одном, в другом няня с детьми, а в третьем прислуга с багажом. Все близкие провожали нас до берега Иртыша, до места Под-Чуваши, где, пока устанавливали наши экипажи на паром, мы простились со всеми провожавшими нас. Здесь же простилась я с моей матерью, маленькими сестрами и братьями; немало, конечно, было пролито горьких слез при этом. Отец же мой, Свистунов и Бобрищев-Пушкин поехали провожать нас и дальше, до второй станции, верст за 40. <...> До Нижнего мы ехали в убийственной неизвестности относительно Михаила Александровича, мы не знали, как он доехал и жив ли? Пробыв в Нижнем дня три, наконец, получили известие, что он жив и здоров, почему и поехали дальше покойно. Усталые и разбитые от продолжительного дальнего пути, мы были очень рады дотащиться, наконец, до Москвы, где надеялись отдохнуть тоже несколько дней, но, увы! нам не дали даже вздохнуть спокойно, не только хорошо отдохнуть. Рано утром 25 мая 1853 года въехали и мы в Белокаменную через Владимирскую заставу; велика показалась мне Москва, пока добрались мы до Малой Дмитровки, в дом покойного Ивана Александровича Фонвизина. Грустно сжималось сердце в этой обширной, но пустынной для нас столице. В осиротелом доме нас встретила лишь оставшаяся там прислуга. Пустота великолепного дома и его могильная тишина производили на нас тягостное впечатление. Только успели мы несколько оправиться с дороги, как стали наезжать родные Натальи Дмитриевны: тетка ее, Александра Павловна Фонвизина, и дядя ее, Сергей Павлович Фонвизин, и другие. Вслед за ними явился чиновник от генерал-губернатора графа Закревского, прося нас немедленно выехать из Москвы в Марьино. Наталья Дмитриевна была настолько утомлена далеким путешествием, что просила позволить ей хоть переночевать в Москве. Пошли переговоры, ходатайства родных, но ничто не помогало - неумолимая власть не согласилась и на это, боясь, как мы узнали после, чтоб у Нат[альи] Дмитр[иевны] не было такого съезда, как при проезде Мих [аила] Алекс [андровича] через Москву. Итак, к вечеру того же дня мы выехали далее в сопровождении жандарма, но только уже не нашего сибиряка; неизвестно по каким соображениям власти вместо него посадили к нам на козлы одетого в полную форму московского жандарма. <...> Проехав всю ночь, мы на другой день утром остановились в Бронницах с тем, чтобы на могиле Ив [ана] Алекс [андровича] отслужить панихиду, и отправили гонца в село Марьино, отстоящее в 2 верстах от Бронниц, предупредить [Мих]аила Алекс [андровича] о нашем приезде. Радость свидания нашего была безгранична. Он был крайне удивлен, увидя меня вместе с Нат [альей] Дмитр[иевной] , так как отъезд мой был решен неожиданно незадолго до нашего выезда, то ему и не успели написать об этом. Марьинская усадьба, окруженная старинным тенистым садом со старинными липовыми аллеями, стояла на возвышенной местности; хороший барский с мезонином и балконами дом виднелся издали. Дом был обширный, комнаты высокие, большие, увешанные старинными портретами и картинами работы покойной матери Натальи Дмитриевны, Марии Павловны Апухтиной. Мы разместились очень удобно; внизу были приемные и комнаты для приезжающих, прекрасный кабинет Мих [аила] Алекс [андровича] и помещение для прислуги. Наверху же спальня и моя комната, из которой открывался великолепный вид. Вдали виднелся город Бронницы, а за ним нескончаемая даль с разбросанными селами, полями и лугами. <...> Михаил Александрович прожил в Марьине ровно одиннадцать месяцев. Отсутствие товарищей и задушевных умных бесед с ними, видимо, было тягостно для него. Наталья же Дмитриевна должна была большую часть времени посвящать приведению в порядок весьма расстроенного имения, доставшегося ей по наследству от брата ее мужа - Ивана Александровича Фонвизина. Он, умирая, не мог оставить его брату, которому не были возвращены права и звание. Соседей, подходящих для Мих [аила] Алекс[андровича], почти никого не было, так что большую часть дня ему приходилось делить со мной. <...> Летом мы с ним часто езжали по разным селам к обедне, много гуляли по любимым, родным его полям. Ему доставляло особенное удовольствие рассказывать мне про былые времена, например, про нашествие французов в 1812 году, причем он вспоминал разные эпизоды, касавшиеся лично его в эту эпоху. <...> Приезды некоторых старых товарищей-декабристов, как, например, Михаила Михайловича Нарышкина с женою, рожденной графиней Коновницыной, барона Тизенгаузена, возвращенного из Сибири по просьбе детей, родных П. С. Бобрищева-Пушкина и разных родных Фонвизиных, служили всякий раз большим утешением для Михаила Александровича. Он точно перерождался и снова оживал в беседах с людьми одного с ним взгляда, образования и понятий. Нарышкины и прежде всегда были очень дружны с Фонвизиными, а так как они, как я говорила выше, были возвращены чрез Кавказ гораздо раньше всех других в Россию, то много о чем пришлось поговорить им при свидании. Личность Мих [аила] Мих[айловича] Нарышкина была необыкновенно симпатична. В его благообразной старческой фигуре (он был в молодости очень красив собой) сияло что-то детское, мягкое. Приветливо-ласковое его обращение привлекало к нему невольно всех. Жена его, Елизавета Петровна, имела самостоятельный характер: она хотя была и некрасива собой, но удивительно умное выражение лица заставляло не замечать этого; ум у нее был в высшей степени острый, игривый и восторженный; она все подметит и ничего не пропустит без замечания. С ней всегда было очень весело и приятно. Она получила самое блестящее образование и была единственная дочь знаменитого генерала графа Коновницына. Любимица отца, обожаемая мужем, она последовала за ним в Сибирь на каторгу, где и подружилась с Натальей Дмитриевной Фонвизиной, перед которой впоследствии благоговела за ее глубокую религиозность и внутреннюю духовную жизнь. При свидании в Марьине они вспоминали о жизни, проведенной на каторге, но без малейшей горечи или грусти, напротив, много смеялись, припоминая разные смешные эпизоды, случавшиеся там с ними. <...> Мих[аил] Алек[сандрович] по своему живому характеру и здесь вел деятельную жизнь и много читал, так как в Марьине сохранилась большая старинная библиотека; он вел огромную переписку, любил очень беседовать с мужиками, вникал во все их нужды, помогал им и словом и делом. Все они имели к нему свободный доступ и большую доверенность. Гуляя с ним, мы часто заходили к крестьянам в избы, где все встречали его, как родного отца, но, несмотря на всю его доброту, он не потакал дурным их качествам и был неумолим, когда нужно было оказывать правосудие, что хорошо знали крестьяне и чтили его за это. Вся хозяйственная часть в Марьине, так же как и в Сибири, лежала на старой няне, Матрене Петровне; она много помогала Мих[аилу] Алекс [андровичу] своею чуткою правдивою натурой в удовлетворении нужд крестьянских. Маленькие приемные дети развлекали и утешали его любящее сердце. Старшую девочку он поместил в одном из московских пансионов, где она и кончила свое воспитание. Наши беседы с Мих[аилом] Алек[сандровичем] были продолжительные; воспоминания о прошлой сибирской жизни и о всех там оставшихся друзьях доставляли ему много удовольствия. Наталья Дмитриевна только к вечеру освобождалась от своих занятий по приведению в порядок дел по имению, и тогда наши общие беседы длились далеко за полночь. Однако душевные потрясения и горести, вынесенные с удивительной покорностью, повлияли разрушительно на здоровье Михаила Александровича. Силы стали изменять ему, неизлечимая болезнь начала проявляться различными недугами, мучившими его немало. Так прошли лето и зима; приближалась живительная весна, дававшая нам большие надежды на обновление сил больного и на успешную борьбу с недугами; но неуловимая смерть подкараулила свою жертву как раз в то время, когда все в природе возрождалось и давало всему жизнь и силу. <...> Это было в 4 часа пополудни 30-го апреля 1854 года. <...>После кончины Михаила Александровича Наталья Дмитриевна должна была заняться приведением в порядок дел по доставшемуся ей по наследству от Ивана Александровича Фонвизина огромному имению, но расстроенному до крайности. Она в продолжение двух лет решительно не имела отдыха. Приходилось разъезжать по разным своим имениям, находящимся в нескольких губерниях, чтобы иметь возможность сохранить их от грозившего полного разорения. Крестьяне обожали ее и обличали пред ней все неблагородные и корыстолюбивые поступки управителей огромных ее владений, отчего возникали у нее постоянные неприятные столкновения с ними. Все это настолько нравственно и физически утомило Наталью Дмитриевну, привыкшую всегда к более отвлеченной, чем деятельной, жизни, что она решилась поехать в Тобольск отдохнуть там душою и взглянуть еще на сотоварищей покойного мужа, а своих друзей. К тому времени еще одно обстоятельство, о котором я буду говорить ниже, побудило ее решиться окончательно на эту поездку, почему в начале 1856 года она и отправилась в Сибирь, взяв с собой маленькую свою воспитанницу, привезенную ею из Сибири, родители которой оставались в Тобольске. Опасаясь же, чтобы не показалось странным правительству и всем окружающим ее путешествие в Сибирь, она устроила свой отъезд так, что никто, кроме меня, ни родные, ни знакомые, ни домашние не знали об этом. Для охраны же в дальней дороге взяла она с собою преданного и верного человека. Она выехала из Марьина в Москву, сказав всем, что едет в свои костромские имения на все лето. <...> Тайну ее я сохранила во всей полноте; никто не подозревал, что я прочитывала письма из Сибири, рассказывая как о полученных из костромских имений. <...> Вскоре возвратилась и сама Наталья Дмитриевна из Тобольска, и когда она рассказывала о своем таинственном путешествии, то все очень смеялись и удивлялись моему уменью, как они выражались, хранить чужую тайну. Вообще в характере Натальи Дмитриевны много было странного и непонятного для света. Не выносила она никакой похвалы себе, почему часто старалась выказывать себя не тем, чем была, напуская на себя вид юродства, чтобы только не считали ее за праведную, и иногда, чтобы еще сильнее опровергнуть похвалу, старалась напускным, каким-нибудь выдающимся и даже порицаемым условиями света действием нарушить хорошее мнение о ней. До старости в ней сохранилось много юношеской восприимчивости, доходящей до самоотвержения, особенно когда касалось ее религиозной стороны. <...> Требовалось ли стеснение свободы, которой она больше всего дорожила, или другой какой жертвы для спасения ближнего, она тогда ни перед чем не останавливалась, каким бы уродством для света ни казались ее действия. Это самопожертвование ради спасения ближнего и было главной причиной ее вторичного брака с Иваном Ивановичем Пущиным, немало удивившего всех ее знакомых и даже друзей. Иван Иванович Пущин, отличаясь либеральными идеями, принадлежал также к тайному обществу декабристов и вместе с другими был сослан в Сибирь. Как человек, он был чрезвычайно добрый, честный, милый, всеми уважаемый и любимый, но, к несчастию, как христианин, мало верующий; хотя и не уклонялся от исполнения обрядов церковных, как многие светские люди, но никогда не вникал в духовную сторону христианской жизни. Когда он, бывало, приезжал из Ялуторовска, где был поселен, в Тобольск и останавливался у Фонвизиных, то мне нередко приходилось присутствовать при их религиозных спорах. Как Михаил Александрович, так и Наталья Дмитриевна усердно старались возбудить в нем духовную внутреннюю жизнь, без чего, по их христианским воззрениям, спасение его души казалось им сомнительным, но он, по обыкновению, всегда отшучивался, говоря, что из него хотят сделать святошу, и мало поддавался их благочестивому влиянию. Когда же впоследствии в Ялуторовске получено было из России известие о праведной и мирной кончине Михаила Александровича Фонвизина, то это грустное событие сильно поразило его, тем более что и сам он к тому времени стал уже серьезно прихварывать и невольно поддаваться унынию. Наталья Дмитриевна не прерывала, конечно, и после смерти Михаила Александровича дружеских сношений с Пущиным, интересовалась по-прежнему его внутренней душевной работой и, как умная женщина, имела на него большое влияние. Но вместе с тем она была как громом поражена неожиданно сделанным им ей предложением. <...> Тайна с предложением никому не была открыта, кроме меня, с которой она делила все свои возрождающиеся и мучившие ее сомнения. <...> Душевная эта борьба настолько ее истомила, что она, с обычной своей энергией, окончательно решилась съездить в Сибирь, как выше сказано, повидаться со всеми оставшимися там друзьями-декабристами и в то же время переговорить лично с Пущиным о несообразности их брака. При свидании же их в Ялуторовске Пущин настолько выразил ей свою глубокую преданность и уважение к ней, что она не могла не откликнуться на искренние его чувства, хотя в то же время независимая ее природа не уступала своих прав. <...> По возвращении из Сибири в 1856 году вместе с прочими декабристами Иван Иванович Пущин поселился на жительство в Петербурге, где жили почти все его родные, но здоровье его, однако, настолько уже было расстроено, что, несмотря на радость свидания с родными, он стал видимо угасать. Наталья Дмитриевна не раз ездила в Петербург навещать его больного. Познакомилась и с его родными. Врачи Петербурга находили климат Петербурга для него вредным и советовали ему для поддержания угасавших его сил переехать как можно скорее в южный климат, на что он не соглашался, а стал торопить, напротив, Наталью Дмитриевну со свадьбой, что сохранял, впрочем, в тайне от всех своих родных. В мае месяце 1857 года они обвенчались в имении его друга, князя Эристова, бывшего единственным свидетелем при их бракосочетании. Наталья Дмитриевна после рассказывала о своем венчании: "В церкви мне казалось, что я стою с мертвецом: так худ и бледен был Иван Иванович, и все точно во сне совершалось. По возвращении из церкви, выпив по бокалу шампанского и закусив, мы поблагодарили доброго хозяина за его дружбу и радушие и за все хлопоты, отправились на станцию железной дороги и прямо через Москву на житье в Марьино, откуда уже известили всех родных и друзей о нашей свадьбе. Родные были крайне удивлены и недовольны, что все было сделано без их ведома". Родные его, зная Наталью Дмитриевну за оригиналку, скоро примирились с этим. В самом деле, в ней так много было своеобразного, не подходящего к обыкновенному уровню светских приличий, что она и при совместной жизни своей с Иваном Ивановичем казалась совершенно вывихнутой костью, особенно когда, бывало, наедут в деревню к ним его светские петербургские родные и знакомые. В столовой тогда накрывался большой круглый стол, за которым собирались все приезжие гости. Иван Иванович любил, чтобы хозяйка сама разливала чай, и Наталья Дмитриевна в угоду ему (она раньше никогда не занималась этим делом) садилась перед самоваром и неопытной рукой, едва умея держать чайник, при общем веселии угощала гостей. Привыкши, что в прошлой ее жизни ей все подавалось готовое, она и сама часто смеялась над своей неловкостью и не обижалась, когда и другие шутили над ее неумением управляться с мелочами домашнего обихода; но зато подчас очень тяжелой казалась ей роль быть не тем, чем она была. Уезжая по делам в свои костромские любимые имения, она там в уединении отдыхала душой. <...> При свидании с Иваном Ивановичем в Марьине, по приезде их после свадьбы, я была поражена страшной переменой, происшедшей в нем. Точно выходец с того света: так он был худ и бледен. Угасающая его жизнь протянулась, однако, в Марьине, вопреки приговорам петербургских врачей, еще два года. Уездный лекарь гор. Бронницы сумел как-то поддерживать упадающие его силы. Но эти страдальческие болезненные два года не прошли для него без пользы. Под влиянием любимой, горячо верующей женщины сердце его отозвалось на призыв благодатного чувства, и он скончался вполне верующим человеком, мирной христианской кончиной, в той же Марьинке, где за несколько лет назад предал дух и старый друг его Михаил Александрович, и похоронен тоже в Бронницах, рядом с могилой Михаила Александровича Фонвизина, в 1859 году. Вскоре после смерти Ивана Ивановича Пущина Наталья Дмитриевна купила себе в Москве дом на Садовой, переехала туда на жительство и зажила снова своей прежней независимой жизнью. Устроив хорошо дела по имениям, она могла жить совершенно без забот и стеснения. <...> Дом Натальи Дмитриевны в Москве был открыт для всех друзей и знакомых ее. К ней любили съезжаться все хорошо знающие и уважающие ее. Бывало, каких разнородных личностей не встретишь в ее гостиной, начиная с высшего аристократического круга сотоварищей покойных ее мужей и кончая простыми, небогатыми и нередко нуждающимися лицами. Для всех равно находила она сказать что-нибудь приятное, никак не чувствовалось натяжки, напротив, ее веселая, умная беседа заставляла забывать время, и часто далеко за полночь просиживали у нее гости, слушая ее красноречивые рассказы о жизни в Сибири. В ее многочисленных анекдотах из жизни их на каторге всегда было много юмору: она особенно умела передать живо и характеристично самый незначительный эпизод, чем и увлекала слушателей. По-прежнему любила угощать. Прислуга у нее была так поставлена, что относилась одинаково вежливо как к богатым, высокопоставленным ее посетителям, так и к бедным и незнатным, которых у нее бывало немало. В Москву часто приезжали навещать Наталью Дмитриевну друзья ее, декабристы: Михаил Михайлович и Елизавета Петровна Нарышкины из своего имения села Высокого, находящегося в семи верстах от Тулы, купленного и приготовленного сестрой княгиней Евдокией Михайловной Голицыной для своего брата, возвращенного из Сибири через Кавказ прежде еще 1856 года, где они и поселились на житье. <...> Елизавета Петровна Нарышкина, рожденная графиня Коновницына, единственная дочь знаменитого в 1812 году генерала Коновницына, получила блестящее образование. Прекрасно воспитанная, любимица отца, обожаемая мужем, она последовала за ним в Сибирь на каторгу, где и подружилась очень с Натальей Дмитриевной Фонвизиной, перед духовными совершенствами которой впоследствии преклонялась и благоговела. Много было в ней тоже юмору. Вспоминая с Натальей Дмитриевной о своей жизни на каторге без малейшей горечи, смеялись и шутили, рассказывая о разных эпизодах, случавшихся там с ними. Как, бывало, подходя к тюремному частоколу, просовывали свои пальчики мужьям, а грубые часовых отгоняли их ружьями, и как они ухитрялись смягчать их жестокость подачками табаку и других мелких предметов. У ней была большая способность идеализировать восторженно, к кому чувствовала симпатию. Наталья Дмитриевна, несмотря на дружбу к ней, не выносила ее увлекающихся восторгов к ней. "Опять в рамку меня ставишь, не выношу этого!" - часто останавливала она ее порывы. Елизавета Петровна мне, как верной союзнице Натальи Дмитриевны, по ее выражению, много показывала расположения и с большим участием относилась к моей нервной болезни, постигшей меня после смерти Михаила Александровича Фонвизина и смерти моего родного отца в Тобольске. Увозила нередко к себе в имение свое Высокое и однажды уговорила меня, чтобы я приехала к ним вместе с их племянницей В. А. Нарышкиной на их сельский праздник 15-го июля, куда собиралась в этот день почти вся Тула с самоварами на целый день. Всем позволялось тогда гулять по их парку и саду. Из Москвы отправились мы туда в почтовой карете. Прекрасная местность села Высокого с каменною церковью в нескольких шагах от великолепного дома с башнями и террасами, утопающего в цветниках роз и резеды, приятно поражала посетителей. Карета наша подкатила к крыльцу, где нас радушно встретили милые хозяева. <...> На большой террасе приготовлен был чай, где все гости разместились и любовались гуляющими. После обеда начались крестьянские хороводы. Молодые деревенские девушки в венках из полевых цветов, а женщины в своих типичных кичках, парни же, молодые запевалы, в красных рубашках, водили хороводы. Заунывны наши русские мелодичные песни, в которых чувствовалась какая-то затаенная грусть неволи и зависимости бедного крепостного народа от произвола какого-нибудь барина, не знающего иногда границ своим разгулявшимся страстям. Живя долго в Сибири, не раз приходилось мне выслушивать от несчастных сосланных по воле помещиков в Сибирь их горькие и грустные истории. Между гостей находились и несколько человек из возвращенных декабристов: Николай Иванович Лорер, Цебриков, Бобрищев-Пушкин. Юмористический склад ума Елизаветы Петровны разнообразил и сообщал непринужденную веселость обществу, хотя в ее остротах иногда и слышались колкие насмешки и попасть на ее зубок несимпатичным ей личностям бывало беда. Михаил Михайлович был более мягким, даже нежного характера, он не умел сердиться, тем более взыскивать с людей. Когда приходилось делать какие-нибудь замечания или взыскания, он обращался с просьбою к жене взять на себя эту неприятную обязанность. Она, несмотря на то что обожала мужа, часто острила над ним по этому поводу. <...> Нередко также приезжал в Москву к Нат[алье] Дмит[риевне] и наш общий друг декабрист Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин. Он по возвращении из Сибири поселился с умалишенным братом своим, Николаем Сергеевичем, возвращенным с ним же вместе из Сибири, в их родовое имение Тульской губернии, Алексинского уезда, к родной сестре своей, Марии Сергеевне Бобрищевой-Пушкиной. Приезжая в Москву, он всегда останавливался в доме Натальи Дмитриевны, где наверху у нее были определены комнаты для приезжающих к ней друзей. <...> Однажды у Натальи Дмитриевны случилось мне познакомиться с замечательной личностью, с одним декабристом, Гаврилом Степановичем Батеньковым. Он, прежде чем быть сосланным в Сибирь, просидел 20 лет в одиночном заключении в крепостях Свартгольм и Петропавловской в Петербурге. <...> Сколько перестрадал этот человек, можно судить из его стихотворения "Одичалый". Легко понять, какую выносил он муку. <...> Это была могучая цельная личность, перенесшая столько душевных потрясений, что одно время, как сам рассказывал, думал, что сходит с ума. Несмотря на все перенесенное, у него не осталось никакой горечи на людей. Он был детски весел со всеми, хотя по наружности казался суровым. Он довольно часто бывал у нас в Москве и оставил по себе самую добрую память вследствие своего добродушия и прямоты характера. Скончался он в Калуге в 1863 году на руках преданных и любивших его друзей. Похоронен же в селе Петрищеве Тульской губернии, в имении своих хороших и добрых друзей Елагиных. Декабрист Петр Николаевич Свистунов в начале своего возвращения из Сибири избрал было местом своего жительства Калугу. <...> В Калуге Свистунов оставил по себе хорошую память и был всеми там уважаем. Вышедши в отставку, он переехал на житье в Москву, сколько для воспитания детей, столько же и для того, чтобы быть ближе к Наталье Дмитриевне, которую, как он, так и вся его семья глубоко уважали и любили. Наталья Дмитриевна была крестной матерью всех его детей. В Москве он купил себе дом в Гагаринском переулке и вел жизнь семейную, тихую, занимался много, по обыкновению, чтением и не оставлял также своей любимой виолончели. Он любил музыку до страсти, и хотя сам новых знакомых не заводил, но все, кто его знал, как старые его товарищи, так и их родные, постоянно его навещали. Острота его ума, любезное обращение очень к нему привязывали всех. Чаще других встречала я у него почтенную личность вдовы генерала Муравьева-Карского. Как теперь помню, худенькая, с седыми буклями, прямо держащаяся старушка, с выражением кротости и доброты, своей добротой и ласковой приветливостью привлекала всех к себе. Она очень любила и уважала старика Петра Николаевича Свистунова. Декабрист Матвей Иванович Муравьев-Апостол в то же почти время переехал из Твери в Москву с семейством, женой и двумя воспитанницами, привезенными им из Сибири. Своих детей у них не было. Он женился еще в Сибири, будучи на поселении. Жена его, Мария Константиновна, была дочь священника из дворян, которая, оставшись сиротой, воспитывалась у тетки своей, г-жи Брант, жены чиновника Бухтарминской таможни. Мария Константиновна была кроткая, любящая сердцем, всеми товарищами ее мужа уважаемая и любимая. Она с большой любовью занималась своими воспитанницами; особенно одна из них была под ее влиянием, а другая находилась совершенно под влиянием Матвея Ивановича, который занимался исключительно ее умственным образованием. <...> |